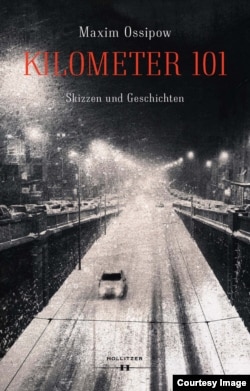Писатель и врач Максим Осипов вошел в русскую литературу в середине 2000-х как точный и объективный наблюдатель за провинциальной жизнью. Его тарусские очерки читаются сегодня в том числе и как мрачное пророчество – о катастрофическом настоящем. Что должен и может сделать русский литератор сейчас, чтобы противостоять войне: молчать, говорить, стыдиться, стыдить других?.. Никакой единственно правильной формулы быть не может, но суд совести, по мнению Максима Осипова, должен, прежде всего, происходить в душе каждого:
– В очерке "Зябко, стыдно, освобожденно", написанном в апреле 2022 года, вы пишете: "Есть выражение: когда ты проигрываешь, становится ясно, чего ты сам стоишь, – скоро мы это поймем. Потому что мы и есть проигравшие, исторически и духовно". Можно ли из этого исторического проигрыша извлечь уроки?
– Помните, был такой фильм Lost in Translation? Я бы сравнил эмиграцию с литературным переводом. Перевод неминуемо сопровождается потерями – по крайней мере для автора (для читателя – не всегда). Но проигрыш проигрышу рознь: можно уступить 0:10, а можно 3:5. То есть кроме lost in translation есть и gained in translation – мы с Борисом Дралюком, американским поэтом и переводчиком, так однажды назвали наше совместное выступление. То же и с эмиграцией – потери ясны: я потерял возможность лечить людей, жить в тарусском доме, смотреть на деревья, которые выросли на моих глазах, видеться с друзьями, оставшимися в России, слышать родную речь, бывать на могилах родителей. Как-никак я прожил в России почти 60 лет за вычетом года в Америке и теперь полутора – в эмиграции. Не говоря уже об историческом фоне, на котором происходит наш разговор: каждое утро начинается с чтения чудовищных новостей.
мы в России жили в очень нездоровом обществе
Приобретения, однако, тоже есть, хотя они и менее очевидны. Я преподаю голландским студентам русскую литературу, причем на английском языке. Думал ли я о таком повороте? Издаю литературный журнал, организовал несколько вечеров русской культуры – поэтических, музыкальных – удачных, мне кажется. Я остро пережил сам момент отъезда – как обрушение, как конец жизни, а дальше – так иногда бывает с серьезной болезнью – сначала все скверно, а потом то тут, то там повезло. Несмотря на расстояния, близкие люди стали ближе, далекие – дальше.
– Менялись ли ваши взгляды на происходящее с момента отъезда?
– Да, кое в чем. Так, в марте 2022-го, сразу после отъезда, я считал, что все, буквально все, обязаны заявить во всеуслышание о своем отношении к войне. Мне казалось правильным спрашивать у музыкантов и прочих культурных деятелей, как они к ней относятся. Теперь мне так не кажется, особенно когда спрашивает чиновник или, скажем, импресарио, от которого зависит твоя судьба. Речь не о позиции "над схваткой", отвратительной, а просто о праве молчать, когда тебя спрашивает начальство. Сам я живо интересуюсь тем, кто что думает, но если бы я продолжал работать врачом, то не имел бы права спрашивать у пациентов, как они относятся к войне. Как и во многих человеческих делах, тут оказалось много конъюнктуры, пошлости. Прошу понять меня правильно: моя антипутинская, антивоенная позиция не поменялась, и я громко заявляю о ней, но частный человек имеет право оставаться частным, начальство – никакое, включая европейское – не должно распоряжаться его совестью. У одного остались в России старики-родители, другой пытается жить на два дома, спасти остатки работы, которую считает делом жизни, третий не знает иностранных языков, четвертый лишен средств к существованию.
А вот – жизненный урок совсем из другой области. Сын моего соседа-врача решил стать плотником. Я узнаю об этом, и мне приходится делать усилие, чтобы брови мои не ползли вверх. А ведь хороший плотник куда полезней бездарного врача, ученого или писателя. Какой переполох вызвало в свое время решение одной милой девушки из хорошей московской семьи стать стюардессой! Тут, в Голландии, иначе. Посмотрите, например, на кондукторов в трамваях и поездах. Видел своими глазами: девушка разговаривает по телефону, ее просят предъявить билет, она показывает – билет в телефоне, не хочу прерывать разговор с мамой. Кондуктор улыбается: "Маме привет", проходит дальше. Форма выглажена, пуговицы блестят. У человека – работа, он может себе позволить завести семью, купить или снять квартиру, жизнь удалась. Вспоминаю кондукторов в подмосковных электричках – помятых, нечисто выбритых: как они обижены на весь свет, как ненавидят этих дурацких дачников, но главным образом – самих себя. Это не только про кондукторов, конечно. ”Писатель: Я писатель! – А по-моему, ты говно", помните у Хармса? Что ни говорите, мы в России жили в очень нездоровом обществе. Чего только стоит наше отношение к всевозможным акцентам, например к фрикативному "г"! Тоже – усмешка судьбы: попробуйте-ка правильно выговорить слово "Гронинген". Да и размеры страны, и способы передвижения – велосипед, трамвай, электричка – мне нравятся. Замените в расхожих афоризмах Россию Голландией – выйдет смешно, поможет понять некоторую нашу ненормальность. "Вам нужны великие потрясения, а мне – великая Голландия".
– "У Голландии два союзника – армия и флот".
– "Голландия, жена моя. До боли. Нам ясен долгий путь". Я совершенно уверен, что мои голландские друзья, если прочтут это, то посмеются, во всяком случае – не обидятся. Это ведь тоже хорошо говорит о стране, не правда ли? Наверняка и тут хватает трудностей, и тут есть и правые популисты, и антисемиты – кого только нет, но общество в целом здорово, мне кажется, или, скажу осторожней, есть ощущение, что оно здорово. Да и соотношение свободы и порядка меня устраивает. Вот в Швейцарии я месяц пожил – там как-то слишком много порядка было на мой вкус. Но я, наверное, тороплюсь с обобщениями, да и наблюдения делаются как бы на бегу: начавшись в марте 2022 года, бег еще не прекратился, хотя и немножко замедлился.
– О чем вы говорите со студентами? Задают ли они вам вопросы о политике?
и по сей день две главные силы в России – мир тайной полиции и криминальный мир
– Я не литературовед, у меня нет гуманитарного образования. В Лейденском университете я, что называется, writer-in-residence, приглашенный писатель. Рассказываю студентам о своем отношении к текстам – к Пушкину, Гоголю, Толстому и так далее, да еще и на английском языке. Как будто стоишь на непрочном льду – вот-вот провалишься, это придает остроты ощущениям, – впрочем, для студентов тоже английский язык не родной. Мы говорим о том, как тот или иной рассказ относится к нам лично, к сегодняшней нашей жизни, к политике в том числе. Читаем Андрея Платонова: почему такой странный синтаксис, такой выбор слов? Почему в "Реке Потудань" больше пятидесяти раз как бы ни к месту употреблено слово "сейчас"? "Земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать все сначала и лишь те существа, которые никогда не жили". Почему, в отличие, например, от Зощенко, это не смешно? И я рассказываю о людях, знакомых мне по прошлой жизни, которые как бы и разговаривать не могли, и вдруг им пришлось заговорить о самых важных вещах. Или – другой пример: у Бабеля в рассказах много обаятельных бандитов и чекистов. В жизни и те, и другие вовсе не обаятельны, но это и по сей день две главные силы в России – мир тайной полиции и криминальный мир. А "нас" – людей доброй воли – в качестве коллективной силы как не было, так и нет. Да, разговор часто выходит и на политику.
– Какие у вас впечатления о голландских студентах? Понимают ли они, хотя бы отчасти, что происходит в России? Многие ли сейчас в Лейденском университете учат русский язык и зачем?
Пространство русского языка сильно меняет форму: где-то сужается, а где-то и расширяется
– Студенты разные. Ко мне на семинар ходил, например, уйгур. Его отец – писатель, сидит в китайском концлагере, он не видел отца уже много лет, так что про тоталитарный режим понимает побольше нашего. В целом же литература девятнадцатого века европейским студентам доступнее, а двадцатый век, советский его период, – экзотика. Начиная с самых простых вещей, например с роли денег. Они были очень нужны, хотя и многого на них купить было нельзя, но, с другой стороны, вроде и можно. Да и отношения между героями, скажем, в любимой мной повести Трифонова "Другая жизнь", с трудом поддаются объяснению. А русский язык – да, учат. Один прочел Достоевского, другой послушал Мусоргского, Шостаковича, третий хочет стать дипломатом. Кстати, на летнюю языковую практику студентов отправляют не в Москву или Петербург, как прежде, а в Даугавпилс. Пространство русского языка сильно меняет форму: где-то сужается, а где-то и расширяется.
А удивило меня в студентах, кроме высокого роста (первое, что бросается тут в глаза), пожалуй, вот что: им не приходилось плакать над книгой, ни над какой. Это выяснилось, когда я сказал, что от "Капитанской дочки" или чеховской "Душечки" у меня каждый раз глаза на мокром месте. Что же, мне тоже не приходилось расчувствоваться до слез в картинной галерее или при виде невероятной красоты здания, другой склад ума. Еще удивляет почти полное незнакомство с Библией, с христианством. Они даже не атеисты, а просто понятия о религии не имеют, не относятся к ней никак. Есть факультет изучения религий, там этим занимаются, наверняка на высоком уровне, а нам оно вроде и ни к чему.
– Многое из написанного вами о России еще в середине нулевых читается сегодня как мрачное пророчество. Это, конечно, обратная проекция – но все равно кажется, что это почти тотальное ощущение бессмысленности существования у ваших героев не могло закончиться ничем хорошим.
– Честно говоря, когда это писалось – до Крыма, до Грузии, до "рокировочки", – я не ожидал, что дело придет к катастрофе, подобной нынешней. Лозунг "План Путина – победа России" – помните, был такой? – казался простым сотрясением воздуха, не обеспеченным содержанием. А оно было, оказывается.
– Множество людей в России не видели смысла в своем существовании, и война для них – чудовищный парадокс! – способ этот смысл найти.
– Да, идея того, что приказы командира и даже целая война могут быть преступными, относительно новая и получила распространение далеко не повсеместно; в России, увы, не получила. В большинстве своем мы ведем себя так, как заведено в нашем кругу, особенно в семье. Собственная независимая гражданская, эстетическая, какая угодно позиция – редкость в любой среде. У одного были предки, которые имели возможность уехать, но не сделали этого, предпочли остаться со своим народом…
– Где тот, к несчастью, был…
– Да, и оказались посажены и расстреляны Сталиным – как такому человеку бежать от какого-то Путина? Но и на войну он, конечно, не пойдет – скорее сядет в тюрьму. У другого отец (или дед) сначала бежал от немцев, потом во время борьбы с космополитизмом скрылся в провинции и благодаря этому уцелел, так что убегать от опасности считается в его семье правильным (мой случай). Не всем, однако, повезло с наследственностью. Есть провинциальный мальчик, у которого дед воевал на финской, потом на Отечественной, не разбирая, какая из них была справедливой, подавлял восстание в Венгрии, вторгался в Чехословакию, воевал в Афганистане, и в семье есть традиция подчиняться начальству, нравится оно или нет. В итоге он идет убивать и гибнуть самому. Да и поддержка войны руководством РПЦ – важнейший фактор. Мы в журнале нашем "Пятая волна" опубликовали на эту тему статью протоиерея Андрея Кордочкина "Бог войны", в ней есть такие слова: "Из всех богов, придуманных людьми, бог войны – самый всеядный. Он не останавливается сам, ему всегда мало. Ибо он ненасытен".
– Многие сейчас ищут корни катастрофы в русской культуре, в ее имперском характере.
во главе российского государства стоит человек чрезвычайно далекий от любой культуры
– Мне это не кажется особенно полезным для понимания того, что произошло. Где была наша имперская культура, когда относительно мирно распадался СССР? Да, культура имперская (как и множество иных культур), но и антиимперская в то же время – то и другое можно обнаружить у одного и того же автора. В "Войне и мире" найдется множество пассажей о том, как выгодно русские отличаются от всех остальных, а в "Хаджи Мурате" есть такое, тоже вполне хрестоматийное: "О ненависти к русским никто не говорил… Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ…" И тут, и там – Толстой. Пушкин не исчерпывается стихотворением "Клеветникам России", а Бродский – злосчастным "На независимость Украины", постоянно приходится это повторять. И потом: во главе российского государства стоит человек чрезвычайно далекий от любой культуры, если не считать таковой "Мурку" одним пальцем на фортепиано и блатную феню. Кроме нефти и газа ему совершенно нечего дать народам – ни своему, ни чужим. Империя, собственно, и схлопывается, когда ей становится нечего дать. Но когда в "Ньюйоркере" я читаю статью про то, что майор Ковалев – имперец, поскольку хочет вернуть на место собственный нос ("Заметьте, – пишет автор, – его задержали на пути в Ригу, то есть на Запад!"), то мне это кажется, мягко сказать, недоразумением.
– В чем вы видите главную ошибку, которую совершил наш круг в девяностые годы, когда, как представлялось, была возможность влиять на события?
главная наша ошибка состоит в том, что ни в девяностые, ни позже, мы не написали демократических песен
– Мой близкий друг на этот вопрос отвечает так: когда открылись возможности ездить, печататься, выступать и т. д., мы увлеклись ими, увлеклись собой, а надо было заняться просвещением, идти работать учителями. Но я-то как раз этим и занимался – у меня было медицинское издательство, мы выпускали толстенные книги, переводные, работали, как проклятые. Поверьте, ни до, ни после ничего близкого по уровню ни в России, ни, смею думать, где-либо еще не делалось. Это понималось нами как служение и было предметом издевок коллег-издателей: мол, книги у вас замечательные, а бизнес, мягко говоря, так себе. А какой смысл в бизнесе, если книжки дерьмовые? Потом была Таруса – тут как раз мотивы были иными, не швейцеровскими: снова захотелось работать врачом, и Таруса оказалась идеальным местом, у меня там уже был дом.
Поэтому я отвечу на ваш вопрос так: главная наша ошибка состоит в том, что ни в девяностые, ни позже, мы не написали демократических песен – в прямом смысле. Помните наш государственный гимн на музыку Глинки? У него ведь не было слов! А песни без слов, простите за каламбур, они не запоминаются. Я эту тему про песни когда-нибудь еще разовью, мне она кажется существенной, это ведь был главный способ общения власти с населением – через песню.
– Не просто песен демократических – не появилось нового языка. Новых слов и понятий, которые были необходимы для новой жизни. Демократические понятия не вошли в обиход, они так и остались чужими. Даже само слово "демократия" – бранное.
– Да, были надежды на рыночную экономику, на интернет… Мол, в эпоху интернета тоталитаризм невозможен. Наверное, в предыдущие времена те же надежды возлагались на телефон, на радио. А интернет для слежки за нами оказался чрезвычайно удобен. Впрочем, найдутся люди, которые лучше меня это всё объяснят.
– Пандемию вы пережили в Тарусе. Нет ли у вас сейчас ощущения, что ковид был знаком, предупреждением…
– Нет, я на подобные вещи не смотрю фабульно, не ищу в жизни сюжета, его в ней нет: "Это нам за то и за то. Заболел потому, что не смог решить такую-то проблему". Или, наоборот, человек верит в свою звезду. А есть ли она на самом деле, звезда? Да, кому-то везет в азартных играх, но будет ли так всегда, или звезда – это только образ, метафора?
– А сейчас из Тарусы вам пишут, звонят?
– Так, изредка, по бытовым поводам. На днях позвонили из газовой службы: "Открывай, хозяин, проверка газового оборудования". Странно, да? Пришлось сказать: я отъехал, соседка сейчас подойдет, откроет. На меня это произвело впечатление. Что касается пациентов, то поток их, естественно, сошел на нет. Весь прошлый год звонили по старой памяти: кому-то я советовал, куда обратиться, говорил, что уехал из страны. Почти все отвечали: желаю вам счастья, очень по-человечески. Одна только пациентка, мы неплохо ей в свое время помогли, сказала: "Я уважаю Владимира Владимировича. И родину свою никогда бы не предала".
– Две России. И им никак не сойтись.
– Я думаю, даже не две – двадцать две. Работая врачом, я много разных "россий" повидал.
– Вы стали выпускать литературный журнал. Как это получилось?
русский язык не принадлежит ни стране России, ни тем более государству, но всем, кто говорит, думает, пишет, читает по-русски
– Эмигранту, видимо, свойственно соглашаться на любые предложения. Потому что, как сказано у Тэффи, "Все это, конечно, хорошо, господа! А вот… ке фер? Фер-то ке?" – то есть делать-то что? И тут мои голландские издатели предлагают публиковать вместе с ними новый ежеквартальный журнал, по-русски и по-английски, быть его главным редактором. Я согласился. Назвал его "Пятая волна", хотя в сущности это не эмигрантское издание, а просто русский неподцензурный литературный журнал, один из немногих, едва ли не единственный из недавно созданных, который выходит в печатном виде. Мне кажется, у нас всегда есть что-то, ради чего журнал стоит купить и читать. И каждый следующий номер, а мы их выпустили уже три, сильней предыдущего. Среди наших авторов есть те, кто в моих рекомендациях никак не нуждается, смешно будет, если я стану их представлять: Цветков, Айзенберг, Гандлевский, Гуголев и многие другие (мне это словосочетание никогда не нравилось – не в последнюю очередь оттого, что я сам нередко оказывался этим "многим другим"), однако есть и ряд личных находок – имена, которые я для себя открыл лишь недавно – частью по невежеству, но частью – оттого, что прежде они не публиковались: стихи Лены Берсон и очерк Василия Антипова о белорусской тюрьме в первом номере, статья протоиерея Андрея Кордочкина и стихи Жени Беркович – во втором, стихи Юрия Смирнова, Григория Петухова – в третьем; простите, опять приходится произносить "и так далее".
– Ваши авторы живут и в России, и вне ее…
– Архангельск, Киев, Париж, Лиссабон, Одесса, Тбилиси, Нью-Йорк, Москва, Токио, Тель-Авив, Франкфурт, Харлем – далеко не полная география. Помню, в свое время, когда я читал "Дневники" Александра Шмемана, то поражался: откуда такое невероятное владение русским языком, такой филологический дар, ведь он ни разу в жизни не был в Советском Союзе! Теперь меня это не удивляет: русский язык не принадлежит ни стране России, ни тем более государству, но всем, кто говорит, думает, пишет, читает по-русски, видит на нем сны. Так что можно сказать: "наши авторы живут в Израиле и вне его", "в Украине и вне ее" и т. п.
– Людмила Петрушевская недавно сказала, что больше не будет писать. Потому что ее герои, соотечественники, которых она любила, предали своими действиями, поступками ее язык, все ее надежды, разрушили ее экзистенцию. Вы чувствуете сейчас в себе потенциал для продолжения литературной деятельности?
Песни военных лет просто стало невозможно слушать. И фильмы про войну невозможно смотреть
– Я хорошо понимаю, о чем говорит Петрушевская. Война заставила нас посмотреть иначе не только на настоящее, но и на прошлое. Хотя мы и читали Чехова, который лучше всех, мне кажется, знал так называемую народную жизнь, мы все-таки жили какими-то неверными представлениями о так называемых "простых" людях, о какой-то трогательной глубинной правде их жизни, находящейся до поры под спудом. Да и русская литература постаралась – Федор Абрамов, Шукшин, да и Достоевский с Толстым. Прошу прощения за самоцитирование, но у меня есть в очерке "Крик домашней птицы" такой фрагмент: "Вот, из детского: мы с отцом куда-то идем далеко по жаре. Деревня, ужасно хочется пить. Отец стучится в незнакомый дом, просит воды. Хозяйка говорит: воды нет, но выносит холодного молока. Мы пьем и выпиваем много, литра, наверное, полтора, отец предлагает хозяйке денег, та пожимает плечами, произносит без выражения: "Милок, ты сдурел?" И где теперь, думаю я, та женщина? Если жива, то смотрит телевизор со всеми вытекающими последствиями. Песни военных лет просто стало невозможно слушать. И фильмы про войну невозможно смотреть.
Или вот такая история: мне ее один депутат рассказал, демократ, давно, когда еще в Думе было несколько демократов. На одну из его встреч с избирателями пришло всего несколько человек, а точнее – четыре старушки, стали жаловаться на тяжелую жизнь, на низкие пенсии. И он им задал вопрос с подвохом: вот если б завтра была возможность увеличить вам пенсии, но пришлось бы отказаться от покупки авианосца, необходимого для защиты отечества, вы согласились бы? Одновременно, чтобы и пенсии, и авианосец, не выходит никак. Старушки покряхтели и сказали: да Бог с ней с пенсией, раз родине нужно, дотерпим уж как-нибудь… Депутата их ответ огорчил, а я, помню, испытал к старушкам симпатию. Теперь бы, наверное, не испытал.
– В чем вы видите сейчас миссию русского литератора?
– Возможно, как раз в отказе от миссии, в смирении. Не от нас зависят судьбы мира, надо признать и принять этот факт. "А язык не отсохнет авось", как сказано у поэта.
– А можно ли сегодня писать вообще? Держа в голове цитату из Адорно – уместны ли стихи после Освенцима?
– Из этой фразы от частого ее повторения совсем улетучился смысл. А влюбляться уместно? А смотреть на деревья? Мы – из-за фейсбука, наверное, – стали слишком пристально следить друг за другом. Вот почти незнакомый мне человек упрекает меня в том, что у меня сборник вышел в России, с какой стати я должен оправдываться? А в первые дни эмиграции опять-таки неизвестные люди меня донимали вопросами, каково мне было оставить тарусских больных. Да, совесть моя неспокойна, но я предпочел бы вести счет своим долгам сам.
Хорошо могу понять тех, кто говорит, что им – лично им – сейчас не до стихов. Помню, что прошлой весной с большим трудом мог слушать музыку, даже когда играли мои дочь и зять. А осенью уже прослушал все шесть концертов их фестиваля во Франкфурте, и с огромным вниманием. Кто-то не позволяет себе иметь всю гамму чувств, кто-то позволяет. Например, Андрей Голышев, начинающий прозаик, мы напечатали его в третьем номере "Пятой волны", заканчивает свой рассказ словами: "Тогда я почувствовал, что счастлив". Следует ли ему просить прощения за свое беззаконное счастье? Но счастье – оно всегда беззаконное. Законным бывает только чувство гордости и глубокого удовлетворения – того, чего у нас нет как нет. Запахло сероводородом, мы вышли в соседнюю комнату.
– Не ощущаете ли вы себя живущим примерно в 1923 году? Потому что все, что вы описываете, – прямая цитата из столетней истории: неподцензурный литературный журнал, нансеновские паспорта… Почему на нашу долю это снова выпало?
– Можно дать несколько ответов. Один из них: не принимайте себя слишком всерьез. Ну, значит, вот так. Такой в отношении нас с вами замысел, план. Я хоть и против внесения в жизнь какой-либо фабулы, но иногда кажется, что она все-таки есть.
– Надеетесь ли вы вернуться в Россию или хотя бы съездить туда?
– Мало ли на что я надеюсь… Стараюсь не думать о возвращении. Да, съездить хотелось бы. Но – помимо возможных неприятностей – что б это было сейчас? Поездка в гости к себе самому?