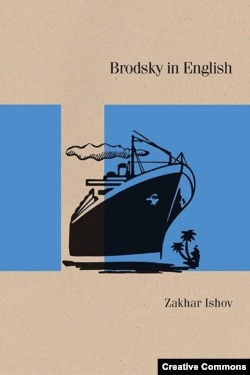Иван Толстой: В издательстве американского Северо-Западного университета вышла книга Захара Ишова "Бродский по-английски", посвященная продвижению поэта к англоязычной аудитории. Речь идет и о самопереводах Бродского на английский, и о переводах, сделанных другими авторами. Захар Ишов – сотрудник Института русских и евразийских исследований Уппсальского университета в Швеции.
Каким образом английский язык вошел в жизнь Бродского? И что известно о знании иностранных языков в окружении его – молодого поэта? Был ли он в какой-то степени белой вороной со своим увлечением и со своим знанием английского? Ведь, по рассказам старших, немецкий в школе в 50-е годы был в моде, был актуальным языком.
Захар Ишов: Остались такие небольшие мемуары неопубликованные о том, как он учил и не смог выучить английский язык в школе, потому что все это было напичкано советской пропагандой. Но потом он уже учил английский язык самоучкой.
Мой учитель – литовский поэт, профессор русской литературы в Йеле, друг Бродского Томас Венцлова – вообще считает, что англоязычная, англофильская ориентация Бродского была результатом его дружбы с Анной Ахматовой. Венцлова, кстати, познакомился с Ахматовой на пару лет раньше, чем он познакомился с Бродским. То есть это был вопрос восстановления преемственности поколений, в основном в связи с космополитической линией в предреволюционной русской культуре, с ее европейскими корнями.
Для поколения Бродского очень было важно перекинуть этот мост к Серебряному веку
Для поколения Бродского очень было важно перекинуть этот мост к Серебряному веку, а, как утверждал в одной книге Омри Ронен, это твердый платиновый, даже лучший, чем золотой. Гимном этой культуре Серебряного века можно считать мандельштамовское стихотворение "Я пью за военные астры". Тут вся мандельштамовская тоска по мировой культуре. Европейская культура, связь с ней помогала русским интеллигентам дореволюционного поколения выживать в "черном бархате советской ночи". Но если Мандельштама она не спасла, то Ахматовой и Пастернаку удалось все-таки выжить.
Кроме того, Ахматова, в отличие от большинства своих современников, была не франкофилом, а англофилом. Так, например, в ее "Поэме без героя" присутствует очень много аллюзий к Шекспиру, Байрону, Китсу, Шелли и Элиоту. Известно, что в годы Большого террора Ахматова пять раз перечитывала "Улисса" Джеймса Джойса. Английская литература помогала пережить все ужасы, через которые ей пришлось пройти: аресты, смерть мужей, заключение сына, аресты своих друзей, постоянную травлю, всю эту чудовищную атмосферу сталинщины.
Все это каким-то образом передалось и Бродскому, это ощущение экзистенциальной важности западной культуры. Был ли он совсем белой вороной, трудно сказать. Многие молодые люди его поколения изучали, например, польский язык. Лев Лурье, ленинградский историк, утверждал, что все это поколение было полонофильским. Чтобы получить доступ к мировой литературе, многие учили польский. Сам Бродский вспоминает, что впервые прочел Пруста, Джойса, Фолкнера и, кажется, Кафку по-польски. Польша была самым веселым бараком в соцлагере, цензура там была не такая страшная, как в СССР, а на польские журналы можно было официально подписаться и просто выписывать себе их на дом.
Иван Толстой: Но все-таки нас интересует английский, английский Бродского. Были ли у него учителя? Что известно о его учебниках, что известно о поэтических антологиях, о книжках, которые он читал? Что стоит за его спиной на его знаменитой фотографии, когда он в своем закуте на Пестеля? Что присылали ему в ссылку? Насколько я слышал, там он очень много прочел английских поэтов.
Америка давала им ощущение второй родины
Захар Ишов: Это правда, чистая правда. Его инстинктивно тянуло на Запад, и он потихонечку от поляков открыл для себя англичан, открыл для себя американскую поэзию, Роберта Фроста. Как вспоминает его московский приятель, переводчик американской поэзии Андрей Сергеев, их всех тогда привлекала Америка. Выжившим из-под Сталина казалось, что всему плохому советскому противостоит все хорошее американское. Кому-то Америка нравилась через книги, кому-то через кино, кому-то через джаз. Бродский любил и то, и другое, и третье, как мы знаем. Сергеев пишет, что Америка давала им ощущение второй родины.
Другим единомышленником Бродского был Виктор Голышев, московский друг Бродского и переводчик американской прозы. Потом, когда Бродский совершил для себя открытие Джона Донна и других поэтов-метафизиков, уже в ссылке в Архангельской области, в Норенской, когда Роберт Фрост стал помогать ему осваивать русский Север, например в таком стихотворении, как "Осень в Норенской", когда он открыл для себя Одена, написал элегию "На смерть Элиота", все это влияние англо-американской поэзии стало только усиливаться.
Он открыл для себя совершенно неизведанный путь в русской поэтике, привнес туда совершенно новые элементы из англоязычной поэзии, которых до этого в ней не существовало. И, конечно, с большим упорством и одержимостью в эти сферы до него никто не погружался. То есть вначале он, наверное, не был уж такой белой вороной, но чем дальше осваивал англоязычную поэзию, тем больше таковой становился.
Иван Толстой: Захар, скажите, вы с увеличительным стеклом случайно не изучали шкаф, который торчит за плечами Бродского? "Я обнял эти плечи и взглянул". Не было ли у вас такого библиографического, исследовательского порыва? Корешки тех книг, которые там стоят, – много ли там книг на английском языке?
Захар Ишов: Безусловно, немножко пользовался увеличительным стеклом. То есть иностранцы, бывавшие в его комнате, в тех легендарных полутора комнатах в коммунальной квартире, где он жил со своими родителями, давали потрясающее описание его англоязычной поэтической библиотеки, которая по богатству и разнообразию не уступала книжной полке какого-нибудь нью-йоркского интеллектуала. Он курил американские сигареты, недоступные для большинства советских граждан, которые ему привозили иностранцы, пил еще менее доступный джин, а по стенам были расклеены самодельные шуточные плакаты на английском языке, такие, как "Разыскивается живым или предпочтительно мертвым Иосиф Бродский" или "Осторожно, сексуальный маньяк". Над этим всем висела фотография Роберта Фроста и фотография Ахматовой. Все это создавало ощущение жизни в некоем альтернативном западном измерении для Бродского, хотя дело было в самом что ни на есть советском Ленинграде.
Иван Толстой: Столкновение с языковой реальностью за океаном – оказался ли Бродский подготовлен к настоящему английскому языку? Помните, как у Довлатова: "Я знал, что здесь не говорят по-русски, но чтобы до такой степени..." Для Бродского был ли этап шока?
Захар Ишов: Конечно же, не был подготовлен. Конечно же, был этап шока, вы совершенно правы. В Советском Союзе общение с иностранцами не поощрялось, как мы знаем. И хотя Бродский был злостным нарушителем этого советского табу на общение с иностранцами, навязываемое сверху, этого все равно было явно недостаточно для его разговорного английского.
С другой стороны, какое-то общение все-таки имело место. Когда он уже оказался в Америке, Бродский окунулся в англоязычную среду с размаху и с полной убежденностью. Очень скоро начал как-то выплывать из этой пучины, то есть гораздо быстрее, чем большинство из его коллег по эмиграции, писателей третьей волны. Важную роль сыграло в этом его преподавание в университете в Мичигане практически с первых дней в Америке, помноженное на его решимость справиться с этой задачей.
Например, известно, что вначале он очень много, чуть ли не все свое свободное время смотрел телевизор в Америке, чтобы как-то наверстать как раз знание того самого разговорного английского. Но главное, конечно, то, что он был одержим английским языком еще у себя дома в Ленинграде.
Браун подумал, что Бродский читает ему стихи на литовском языке, такое у Бродского было плохое произношение
Кларенс Браун, знаменитый принстонский профессор, основоположник мандельштамоведения в Америке, вспоминал, что когда в 1966 году Бродский прокричал ему в ухо стихи Джорджа Херберта на улице Горького в Москве, английского поэта-метафизика XVII века, Браун подумал, что Бродский читает ему стихи на литовском языке, такое у Бродского было плохое произношение по-английски, так он коверкал английские слова на тот момент. Но тут все же главное, что он уже тогда знал эти стихи по памяти, что они ему были уже тогда очень важны, все это было лишь через год после его освобождения из ссылки на дальнем Севере, куда его сослала судья Савельева в 1964 году.
После освобождения он, как известно, продолжил занятия английским самостоятельно. К тому же ему привозили разные пластинки из Англии: Ричард Бёртон читает Шекспира, и так далее. Я взял интервью, кажется, в 2010 году, у совершенно замечательной леди, которое не вошло в книгу, леди Наташи Спендер, вдовы Стивена Спендера. Она принимала у себя дома Бродского в первые недели на Западе, когда он приехал в компании Одена на лондонский фестиваль, имела возможность за ним наблюдать. И она говорила о потрясающей открытости Бродского новым впечатлениям в первые дни на Западе. Не было ни грамма того желания, присущего многим русским эмигрантам, закрыться в собственной скорлупе. Этим он очевидно отличался от большинства своих советских соплеменников на Западе даже среди писателей, например того же Солженицына или Синявского.
Иван Толстой: Захар, а что можно сказать о переводческих установках Бродского? За какой традицией он следовал? Ведь традиций было множество. Какие идеи он утверждал как переводчик сам?
Захар Ишов: Это была такая эквиритмическая школа, конечно, в некотором смысле советская переводческая школа, которая в большой степени была советским феноменом. Об этом есть очень хорошая книжка Мориса Фридберга, польского еврея, которому удалось спастись как от гитлеровской оккупации, так и от советской депортации, который стал известным профессором русской литературы в Америке. Фридберг пишет о советском мифе о самой сильной переводческой школе в мире. Конечно, там присутствовала чудовищная цензура, и гордиться было на самом деле нечем.
Кроме того, что переводы являлись некоторым эрзацем, заменителем самостоятельного творчества, отнимали от него силы и время, таковыми были, по сути, и задуманы, то есть это был метод отвадить, отвлечь поэтов от собственного творчества, таким образом контролировать поэзию, которая выходила за рамки официально предписанной.
С другой стороны, потому что такие гениальные люди, как Ахматова, Пастернак, например, оказались вовлеченными в переводы – это сказывалось на их высоком качестве и на высоких переводческих стандартах. Кроме того, все эти принципы эквиритмического перевода, которые в своей книге описывает Ефим Эткинд, например, они уходят корнями в эпоху Серебряного века. Предтечей Бродского в его принципах перевода был не кто иной, как Николай Гумилев, его девять заповедей переводчика, напечатанных уже после революции в брошюре, издаваемой Горьким, из которой после казни Гумилева в августе 1921 года исчезло его имя.
Кроме того, эта идея традиции в мандельштамовском понимании, как упоминательной клавиатуры, и в элиотовском понимании, как преемственности, как диалога между поэтами поверх временных барьеров, была очень важна для Бродского. Это тоже была отчасти форма политического сопротивления, как я показываю в книге, потому что большевики разрушали традиции, а Бродский, его поколение пыталось восстановить преемственность поколений, наладить связь времен. Поэтому Бродский так и настаивал потом в Америке на том, чтобы Ахматову, Мандельштама переводить на английский с сохранением формы оригинала. Он даже преуспел в полемических стычках, сумев убедить некоторых из своих современников в Америке, в Англии в правоте, в легитимности такого подхода, несмотря на то что это звучало тогда весьма немодно.
Эквиритмический перевод поэзии на английский – это страшно тяжелый, неблагодарный труд в принципе
С тех пор можно наблюдать, что маятник качнулся в другую сторону, имел место некоторый возврат или реабилитация формы в англоязычной поэзии. Сегодня уже идея перевода стихов на английский с воспроизведением размера и рифмы не показалась бы столь радикальной или, наоборот, старомодной. Хотя эквиритмический перевод поэзии на английский – это страшно тяжелый, неблагодарный труд в принципе. Так что есть резон в том, чтобы поступиться формой оригинала хотя бы в целях простой экономии времени, но Бродский об этом даже слышать не хотел.
В том, что касается переводов его собственных стихов на английский, как я показываю в книге, Бродский как раз пытался воспроизвести не размер, а живой ритм своих русских стихов со всеми фонетическими особенностями их звучания по-русски, которые несвойственны английскому языку, английской просодии. Отчасти это было связано с особенной манерой чтения Бродского, которую многие связывают с синагогальным или с церковным пением. Для Бродского было очень важно сохранить этот перформативный аспект чтения. Часть его подпольной славы на родине была связана как раз с этой манерой читать свои стихи на публику по памяти, закинув голову вверх. Он заметил, что ему удается покорять своим чтением стихов и слушателей на Западе, в Америке и даже в Англии. Однако это приводило к тому, что стихи на бумаге вне авторского перформанса звучали не совсем естественно по-английски, получалось, что это стихи немного с русским акцентом, хотя по-русски как раз у Бродского был еврейский акцент, "ломаное "р" еврея", как он описал в своих "Римских элегиях".
Иван Толстой: Захар, до сих пор мы говорили о Бродском-переводчике, о том, как он переводил на английский собственные стихи. Но ведь начиная с некоторого времени он начал писать на английском языке и сам. Что говорят американцы и англичане – английская ли это поэзия получалась?
Захар Ишов: Как я показываю в своей книге, эти английские стихи были побочным продуктом его переводческой деятельности отчасти. То есть для поддержания его американской карьеры нужны были переводы стихов Бродского на английский. Многие англоязычные переводчики, поэты взялись ему в этом помочь, что для Америки, в отличие от Советского Союза, было необычно, так как там поэты пишут свои стихи больше, чем переводят чужие. Но Бродский оказался очень требовательным поэтом. Основным требованием было сохранение формы оригинала, то есть передача рифмы, русского размера по-английски. В Америке 70-х такой подход казался очень непопулярным, не говоря уже о том, что это очень затратно, не всегда осуществимо.
Например, Ричард Уилбер, замечательный поэт и переводчик, потратил целых два месяца на то, чтобы перевести 36 строк из стихотворения Бродского "Шесть лет спустя" на английский. Это совершенно гениальный перевод, хотя даже и тут Бродский последние две строчки исправил и явно не в лучшую сторону. А Уилбер за эти два месяца мог бы заниматься своими стихами. Кроме того, в таких фонетически разных языках, как русский и английский, с разной поэтической традицией, вообще трудно говорить о прямых эквивалентах. В результате потихонечку Бродский начал исправлять эти переводы, придумывать свои рифмы, вносить свои авторские изменения, да и вовсе переделывать переводы, сделанные носителями английского языка, использовать их как полуфабрикаты для своих версий. Тут возник новый конфликт с переводчиками.
Бродский постепенно превратился в переводчика собственных стихов на английский, самостоятельного англоязычного писателя, поэта, автора эссе, стихов, написанных в оригинале по-английски. По мнению большинства, особенно людей в американских академических кругах, делать ему это не стоило, "стекла зубами не укусить", как сказано в знаменитом стихотворении Мандельштама, "не искушай чужих наречий". На этом обычно ставится точка в обсуждении.
У Бродского были потрясающие находки по-английски
Но на самом деле у Бродского были и свои защитники, особенно его американские друзья, поэты Дерек Уолкотт и Марк Стрэнд. Интервью с обоими включены в приложение к моей книге. Им нравилась его изобретательность по-английски, его дерзость, он свободно экспериментировал с языком, будучи в меньшей степени связан грамматическими правилами. В конце концов, художник должен дерзать, как сказал бы Венечка Ерофеев.
У Бродского были потрясающие находки по-английски. Вообще Бродский по-английски – это отчасти феномен, связанный с его еврейством. Бродский вырос в страшные годы государственного антисемитизма, борьбы с космополитизмом, "врачей-вредителей", тогда Сталин собрался сослать всех евреев на Север, они чудом спаслись, так как Сталин умер. Неудивительно, что Бродский, который рос в такой атмосфере, до конца не смог признать своего еврейства, хотя не считал зазорным его скрывать. Но, по сути, тот путь, который он проделал по-английски, проделали десятки, если не сотни других еврейских писателей, чей родной язык был идиш, например, но которые прикладывали невероятные усилия, чтобы начать писать на языке той страны, в которой они оказались.
Иван Толстой: Захар, что представляет собой англоязычная эссеистика Бродского? Ведь злые языки говорят, что, ограничься Бродский только русским языком, не видать ему Нобелевской премии. Более того, Бродского, мол, узнали только после выхода по-английски тома его эссеистики. Это преувеличение?
Захар Ишов: Это не преувеличение – это чистая правда. В самой постановке вопроса отчасти есть некоторое недоразумение, как мне кажется. Да, эссе сыграли свою роль. Вообще публика давно ждет от поэта прозы, а у стихов обычно меньше поклонников. Его сборник эссе "Меньше единицы" получил престижную награду за лучшие американские эссе в 1986 году. Бродский талантливый эссеист, и во многом его проза – это проза поэта, продолжение поэзии другими средствами. Совершенно замечательно, что эссе, посвященное его любимым русским поэтам – Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, соседствует с эссе, где он делает построчный разбор англоязычной поэзии, невероятные по тонкости разборы стихов Одена, Фроста, Томаса Харди, Стивена Спендера. И как связующее звено между теми и другими – "Письмо Горацию", например, римскому поэту.
Его венецианская книжечка совершенно замечательная, по-английски "Watermark", или по-русски "Набережная неисцелимых". Конечно, есть вещи, связанные не с языком, а уже с самим Бродским, которые немного устарели или вызывают сегодня некий "легкий кринж", как теперь принято говорить среди молодежи. Но люди – существа весьма сложные: как в знаменитой пьесе Гоголя не получается так, чтобы губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича и так далее, не получается к поэзии Бродского, например, приставить темперамент, и терпимость, и такт Льва Рубинштейна, например, – они разные люди. Может быть, Лев Рубинштейн всего этого не выдержал бы, такого пути, как Бродский, не проделал, – мы ценим их за разное.
И вы совершенно правы, что без английских переводов не было бы никакой Нобелевки. Я совершенно не понимаю того отсутствия интереса или даже равнодушия у русскоязычной публики к английскому Бродскому. Это была чисто американская история, американская мечта. Человека, большого поэта, долго травили дома, выкинули с родины с целью заставить замолчать. Людей, собиравших его стихи в Ленинграде, сажали, преследовали, Марамзин, Хейфец получили большие сроки, были другие примеры. Бродский в результате невероятных усилий, вложив много труда, чтобы стать англоязычным писателем, получает мировое признание, возвращается на родину Нобелевским лауреатом, где его книги впервые выходят огромными тиражами. И после этого весь этот путь, который он проделал, чтобы осуществить этот триумф, все эти неимоверные усилия просто поставить за скобки, забыть обо всем этом и сказать: ах, вот какой у нас прекрасный гениальный русский поэт, мы им так гордимся.
Мне кажется, это просто присвоить себе чужие заслуги, присвоение себе поэта. Бродский при жизни никогда не позволял этого делать. Я недавно слышал рассказ, как на одном эмигрантском чтении публика пыталась тоже себе его присвоить, обращаться к нему по-русски, и он попросил просто переводить их вопросы на английский, откровенно ставил их на место. В этом смысле он был настоящим западником.