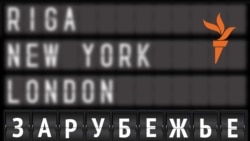Екатерина Горбовская:
Когда был Эрос маленький
с кудрявой головой
цветы росли в проталинке
на стылой мостовой
и в сторону смущаясь
смотрели фонари
и что-то там смещалось
и ухало внутри –
от низа и до сердца-минхерца
Мин херц билось – не разбилось
морген матка яйки млеко
Эрос вырос стал как силос
постным лишним человеком
Полдень выпал из обоймы.
Кто мы? Где мы? И на кой мы?
Игорь Померанцев: Екатерина, ваш отец Александр Горбовский востоковед, писатель-фантаст, переводчик, причем он переводил с разных языков, включая бенгальский, по-моему, он переводил Тагора. Наш подкаст называется "Зарубежье". Благодаря отцу вы в Москве открыли какие-то зарубежья?
Благодаря отцу я открыла для себя десять измерений Вселенной
Екатерина Горбовская: Благодаря отцу я открыла для себя десять измерений Вселенной, по сравнению с чем земные зарубежья – это уже семечки. Он дружил с Иваном Антоновичем Ефремовым, автор "Туманности Андромеды", "Лезвия бритвы", "Таис Афинской". Но это был очень непростой человек. То, что представлено в этих книгах в доступной для читателя форме, это всего лишь верхушка айсберга тех познаний, тех посвящений, которыми он владел.
Мой отец часто очень ездил к Ивану Антоновичу, они с ним очень много разговаривали о тех подводных гранях этого айсберга. И каждый раз я с нетерпением ждала его возвращения, чтобы услышать в адаптированной, естественно, для меня версии какие-то выдержки из этих бесед.
Что касается земных зарубежий, то это, наверное, в первую очередь Англия. Дело в том, что киевская ветвь папиной семьи незадолго до революции эмигрировала в Англию, и я знала, что там есть мои кузены, мои ровесники, есть тетушка, дядюшка. Но мое открытие Англии произошло задолго до того, как я туда в 15 лет впервые приехала.
Англия вошла в мое сознание неким архетипом еще в дошкольном возрасте
Так получилось, что Англия вошла в мое сознание неким архетипом еще в дошкольном возрасте. Когда мне было лет шесть, на моем горизонте возникла живая англичанка – это была жена папиного близкого друга. И вот через нее, а точнее через предметы, которые она приносила в наш дом, в моем поле зрения появились визуальные объекты этой страны, доселе мне неведомой: зарисовки сценок из английской жизни на коробке конфет, рисунки на страницах детских книжек, открытки с видами Лондона и сельских всяких пасторалей. Когда я смотрела на эти картинки, меня охватывала непонятная необъяснимая тоска, чувство чего-то несбыточного и дежавю одновременно.
И вот с тех пор, где-то с раннего детства Англия при всей ее недоступности всегда была рядом, я всегда по ней тосковала. Хотелось учить язык, хотелось читать и смотреть все, что только приоткрывало дверь. Это абсолютно недоступное, не зарубежье даже, а зазеркалье.
Мне было лет десять, наверное, уже постарше была, абсолютно безотносительно к Англии я спросила у папы: "А почему каждый раз, когда я смотрю на звезды, мне хочется плакать?" И папа стал мне рассказывать про то, что мы все оттуда, и пока мы маленькие, память еще не совсем стертая, глядя на звезды, мы хотим что-то вспомнить, но не можем, только тоскуем. Но потом память стирается окончательно, и это проходит.
А вот относительно Англии у меня это не проходило все последующие годы, продолжалось до того самого дня, когда в 1991 году по прилете в Хитроу я выбросила обратный билет.
Иван Толстой: Екатерина, а ваши стихи, они возникли в семье, благодаря отцу или выросли изнутри вас самой?
Екатерина Горбовская: Они выросли из тех пластинок английских Top of the pops с дурацкими текстами, где маленькими короткими блоками-заготовками шли какие-то пробойные, абсолютно ключевые фразы, которые пробивали. Я сидела в своей комнате, даже это еще были не пластинки, пластинки я уже потом стала привозить из Англии, – это были записи, которые мне приносили, крутилась катушка магнитофона "Грюндиг". И вот я это слушала, меня это прошибало, и мне хотелось что-то такое же свое. Я садилась и писала что-то такое же свое на бумаге.
Мой папа тоже писал стихи в юности. Они ходили в один, по-моему, семинар с Александром Ароновым. Когда уже потом, много-много лет спустя меня представили Александру Аронову, он меня тряс за плечи и говорил: "Ты? Ты дочка Горбовского? Это ты? Это правда?"
Первые свои стихи, которые я написала на бумажке, я подсунула папе под дверь
Я была не единственным человеком в семье, который писал стихи, но когда уже это дело стало для меня более серьезным, этот вопрос встал на повестку дня, я первые свои стихи, которые написала на бумажке, подсунула папе под дверь. Папа пришел ко мне очень озабоченный и очень расстроенный. Он мне сказала: "Катя, я не думаю, что тебе стоит этим заниматься. Я на своем веку насмотрелся на этих литературных девочек, которые обивают пороги редакций, – это очень жалкое зрелище и очень печальная судьба". Но я папу не послушалась, и впоследствии папа не пожалел о том, что я его не послушалась.
Игорь Померанцев: Вы говорили об образе Англии в Москве, в вашем доме, в разговорах, в семье. Вы в 1982 году приехали в Англию. Московский образ Англии совпал с реальной Англией?
Екатерина Горбовская: Говорить о том образе Англии, который существовал в моем сознании до того, как я впервые приехала сюда в 15 лет, насколько этот образ совпал с реальностью, сегодня опять же было бы несколько неактуально. Потому что этот образ на протяжении десятков лет, что я сюда приезжала в качестве гостя, менялся, реальный образ Англии постепенно вытеснял все эти мои иллюзорные представления о них.
В моем отношении к Англии после того, как я сюда приехала, менялись оттенки, полюса, нюансы, потому что менялась я, менялись реалии, менялось мышление, переосмысление. В общем, чтобы не растекаться мыслью по древу, скажу так: представьте себе снеговика в начале января, а теперь представьте себе того же снеговика, простоявшего до конца марта. Вот примерно так мне видится та Англия, которую я безоглядно полюбила больше 40 лет назад, и та Англия, которую я вижу сегодня. Но давайте утешаться тем, что это не более чем мое очень субъективное видение.
Я прекрасно понимаю, насколько все относительно, более чем относительно. Эту относительность, кстати, лучше всего подтверждает одна очень забавная история. Однажды в конце 90-х мы с одним моим русскоговорящим знакомым в Лондоне ехали в миникэбе, а за рулем сидел бывший студент Института Патриса Лумумбы, представитель одной из тех африканских стран, которые некогда опекал Советский Союз. И вот на абсолютно безупречном русском он нам рассказал, что провел в Москве порядка 10 лет, 5 лет учился на врача, потом ординатура, а потом приехал в Лондон и сел за баранку.
Вот это "елы-палы" меня, конечно, добило
Поведав нам свою нехитрую историю, он запричитал: "Эх, какая страна была Советский Союз! Медицина бесплатная, образование бесплатное, Африке помогала, всех учила, кормила. Эх, какую страну просрали, елы-палы!" Вот это "елы-палы" меня, конечно, добило.
В принципе, я вполне допускаю, что моя метафора про снеговика сродни печали того водителя миникэба. Я не знаю, любил ли он Советский Союз так же, как я любила Англию, похоже, каждый из нас оплакивает гибель того мироустройства, которое нам казалось идеальным: ему – Советский Союз, а мне – старая добрая Англия.
Например, лондонский полицейский, образ Лондона традиционно у нас ассоциировался с образом английского полицейского-бобби: компетентный, корректный, надежный, рыцарь без страха и упрека, он честь и совесть всего нашего. Он всегда символизировал не только безопасность, но и сам британский подход к правопорядку. Да, мой жизненный опыт всегда это подтверждал.
Такая, допустим, временная шкала с конца 70-х по сегодняшний день: мое первое утро в Лондоне, я иду по улице, а навстречу мне полицейский, мне 15 лет было, очень взрослый дяденька лет 20, в белоснежной форменной рубашке с короткими рукавами. И вдруг он мне говорит: "Привет, красотка!" Подмигнул и пошел дальше. Взрослый дяденька, такой красивый, мне – прыщавой двоечнице. Я помню, мне никто раньше такого не говорил. Я помню, я распрямила спину и дальше пошла уже красоткой.
А потом много лет спустя я снова его встретила – это уже было на промозглом октябрьском ветру. Я пыталась в телефоне на Google Maps найти нужную мне какую-то улицу, и вдруг слышу над собой голос: "Мадам, вам помочь?" Только это был уже не 20-летний дяденька, а мальчик лет 20, все в той же белой рубашке с короткими рукавами, в октябре они еще, видимо, в летней форме ходят.
В общем, прошли десятилетия, сменились пласты поколений, а незыблемость образа, олицетворяющего ум, честь и совесть, оставалась неизменной. И с тех пор прошло еще 10 лет, и вот буквально где-то на прошлой неделе наша знакомая шла по улице в Челси, Челси – это очень респектабельный район Лондона, она шла и разговаривала по мобильному телефону. И вдруг среди бела дня спокойной походкой, не спеша, к ней подошли двое, приставили нож к горлу на виду у всех и потребовали, чтобы она отдала свой мобильный телефон.
Два полицейских видели, что происходит, и отвернулись
На другой стороне улицы стояли два полицейских, они видели, что происходит, и отвернулись. Наша знакомая, естественно, отдала телефон, они взяли телефон и не спеша пошли куда-то дальше пить кофе. Это я уже домысливаю, но во всяком случае, они пошли не спеша, понимая, что ничего им не будет. Наша знакомая перешла улицу, подошла к полицейским, спросила у них: "Ведь вы же видели, что произошло, почему вы не вмешались, почему вы отвернулись?" Они ей ответили: "А это не наша территория". На что она им сказала: "Сейчас это будет вашей территорией". И потребовала, чтобы они вызвали патруль. В ответ на это они ей сказали: "А ты, вообще, откуда приехала? Уезжай туда, откуда приехала, если у вас там так хорошо". Привет от снеговика.
Иван Толстой: Екатерина, когда разговор идет о начале 80-х годов, то для русского человека, для советского человека Лондон – это совсем не столица русской эмиграции. Привычные, конечно, Париж, Нью-Йорк, Иерусалим, Берлин, но не Лондон. Чем был Лондон для вас? Я имею в виду, конечно, русскую составляющую, если бросить проекцию на русское сознание, на русское восприятие. Каков был ваш круг?
Екатерина Горбовская: Мой круг был исключительно английский. У нас тут семья была, родственники, англичане уже не в первом поколении. Приезжала я сюда поначалу с папой. Что касается русских, я знаю, что папа здесь встречался с Александром Пятигорским. Телефон Александра Пятигорского был у меня в записной книжке, когда я приезжала сюда одна, мне папа давал этот телефон, говорил: "Если какие-то проблемы будут, если нужна какая-то помощь, позвони по этому телефону". Я жила в английских семьях, общалась с английскими людьми, с эмигрантской средой русской здесь не общалась.
Игорь Померанцев: Об англичанах. Какие английские черты вам симпатичны, а может быть, есть какие-то черты, которые у вас вызывают чувство отторжения?
Екатерина Горбовская: В рамках современной христианской цивилизации и те, и другие черты – это скорее черты, кочующие среди представителей рода людского, вне зависимости от национальности. Они мутируют под влиянием времени, обстоятельств. Традиционный уклад, культурное наследие, место проживания имеют на них незначительное влияние. Говорить о человеческих чертах, которые вызывают чувство отторжения, и приписывать их исключительно англичанам – это было бы не совсем честно, не совсем справедливо. Тем более когда люди начинают говорить о тех чертах, которые им нравятся, о тех чертах, которые им не нравятся в других людях, они, в общем-то, обнажают свои собственные слабости.
Иван Толстой: Неужели, по-вашему, нет типичного англичанина? Яркого представителя Йоркшира?
Екатерина Горбовская: Назовите мне социальный срез.
Иван Толстой: Вот мы начинаем уже торговаться, уже интереснее.
Екатерина Горбовская: Потому что типичного англичанина нет, точно так же, как нет типичного русского, типичного еврея. Назовите мне типичного еврея?
Иван Толстой: Возьмите у меня интервью, я вас завалю типичными евреями и типичными русскими. Может быть, это нельзя будет дать в эфир, и тем не менее.
Игорь Померанцев: Я британец, имею в виду по паспорту. Большую часть жизни я прожил в Англии, у меня дом в Англии, я работал с англичанами, и у меня другой опыт по сравнению с вашим, например. При встречах с шотландцами или валлийцами они всегда меня убеждали: "О, ты как мы, ты здесь тоже чужой". То есть они чувствовали, что англичане другие.
Эксперты по Англии называют англичан "нацией театра"
Что касается того, что Иван не дал бы в эфир про типичные черты, эксперты по Англии называют англичан "нацией театра". И я могу это подтвердить, потому что англичан часто упрекают в лицемерии, а бы предпочел слово лицедейство – это всегда некая игра в диалоги. Я помню, как-то на моей улице Фидженс авеню в Лондоне два простых человека ругались из-за парковки, и один другому сказал: "Ты хочешь меня так напугать, чтобы я заикался?" Тот ему отвечает: "Нет, я хочу, чтобы у тебя мороз по спине прошел". Это был театр.
Екатерина Горбовская: Я в принципе такую же сценку могу себе представить и на российской парковке. Любой диалог зависит от образовательного ценза участников, от их культурного бэкграунда. Потому что два других англичанина просто спустились бы на нецензурную ругань и мордобой. И опять же это не типичные англичане.
То, что вы говорите, – это общечеловеческие черты. Есть ли клише англичанина? Нет такого клише, я так считаю. Потому что все то, что я вижу в англичанах, я вижу и в представителях других наций. Может быть, у одних это более утрировано, у других менее, у одних на передний план выходит одно, у других другое. Я всегда воздерживаюсь от того, чтобы говорить: вот это типичный англичанин, это типичный русский, это типичный еврей, это немец стопроцентный. Нет, я так не считаю.
Иван Толстой: Хорошо, Екатерина, давайте совершим историческое путешествие обратно в Россию, то есть в Советский Союз, в то время, когда вышла ваша первая книжка стихов. Вот тут, по-моему, после того как на вас накинулся век-волкодав, накинулась на вас слава, стали о вас говорить, писать песни на ваши стихи, вот тут вы совершили нетипичный поступок ни для русского, не знаю уж, для кого: вы отвернулись от возможности этой ярко освещенной дороги и выбрали свой путь – незаметный путь побега в сторону от славы.
Что это было, расшифруйте, пожалуйста? Это не очень понятно из той краткой биографии, которую можно найти в интернете.
Екатерина Горбовская: Когда я еще училась в школе, у моих родителей был очень хороший близкий знакомый – профессор кафедры философии МГУ, научные публикации, прекрасные перспективы, полное материальное благополучие, квартира, машина и всякие прочие советские ништяки. И вдруг в один прекрасный день он приходит с новостью: он уезжает навсегда. Чемодан, вокзал, Вена, далее везде. Это было как гром среди ясного неба.
И когда мои родители пришли в себя от шока, я помню, кто-то из них озвучил вопрос: "Коля (его звали Николай Васильевич Новиков), объясни, ты столького добился, у тебя такая безоблачная карьера, тебя ценят в академических кругах, ты совсем не мальчик, ты решился все это бросить и уехать в полную неизвестность?" Николай Васильевич ответил, запомнила я это на всю жизнь: "Да, ребята, вы совершенно правы, я кое-чего в этой жизни достиг и мог бы достичь еще большего. Но если я не уеду и проживу только эту жизнь, у меня будет только одна эта жизнь. А если уеду и начну с нуля, то как бы оно у меня там ни сложилось, я проживу вторую жизнь. Я проживу две жизни вместо одной, я хочу две жизни, а не одну".
Что касается меня, я не уверена, что я искала в Англии именно вторую жизнь, я думаю, что я искала первую. Я с такой неотвратимостью понимала, что если не уеду, то умру заживо. Просто, понимаете, по мере моих соприкосновений с окружающим миром приходило очень отчетливое понимание того, что мою жизнь до скончания века будут решать по своему усмотрению мордатые кабинетные дядьки. Потому что жизнь всегда будет идти через какой-нибудь кабинет, где сидит какой-нибудь Егор Кузьмич, Демьян Фомич, Иван Петрович. Моя прекрасная, бесконечная, огромная, светлая жизнь будет зависеть от того, был ли у него сегодня утром стул или нет, захочется ему сегодня так или захочется ему эдак, есть ли у него в этом какой-то свой интерес. Они в общем-то не имеют права не то что решать, они даже приближаться к моей жизни не имеют права, потому что она – моя жизнь, она умирает от одного только их дыхания.
В общем, нашла ли я в Англии то, что искала? То, что искала тогда, 33 года назад, да, нашла. У меня не одна жизнь, у меня две жизни, а третьей мне уже не надо, спасибо, я ее просто не потяну.
Игорь Померанцев: У меня вопрос к вашей второй английской жизни: что значит быть поэтом, да еще иностранным, в Англии?
Если ты начинаешь думать о том, какой ты поэт, то ты жизнь не построишь с нуля
Екатерина Горбовская: Для каждого это значит что-то свое. Для меня это значит быть обычным человеком и не забивать ни себе, ни другим голову всякой ерундой, вот и все. Если ты начинаешь думать о том, какой ты поэт, то ты жизнь не построишь с нуля.
Игорь Померанцев: Я читаю ваш блог, вы часто пишете об Испании. Почему? Это еще одно зарубежье?
Екатерина Горбовская: Испания, да, в общем-то Испания. Уже почти 20 лет как мы живем на два дома: декабрь, январь, сентябрь, октябрь, две-три недели лета проводить в Испании. Нет, это не еще одно зарубежье, а еще один любимый дом, еще одно любимое место на Земле. Мы с Сашей как-то пытались понять, где наш дом: там, в том Богом забытом уголке на юго-восточной окраине Испании или тут в Лондоне? В общем-то так и не определились. Я помню, Саша сказал в ответ на мой вопрос: "Дом там, где тапочки души". Мне кажется, что мы эти тапочки возим с собой из Лондона в Мар де Кристаль и обратно, одну пару на двоих.
Игорь Померанцев: Ваш отец Александр Горбовский родом из Киева. Для вас это имеет значение? Какие ассоциации у вас связаны со словом "Украина"?
Екатерина Горбовская: То, что мой отец родом из Киева, конечно, это имеет для меня значение. Такое же значение, как и то, что моя мама из Балашихи. Для меня имеет значение все, что связано с моими родителями. Что касается ассоциации с Киевом, мы часто ездили туда с папой к родственникам, у нас там жила наша старая тетушка Ирен, та самая, про которую я когда-то написала:
"Как говорила тетушка Ирена,
живем от Мендельсона до Шопена.
Хранила пачку писем из Парижа…",
и так далее. Я помню этот город. Я помню, как бабушка моя, папина мама, в далеком детстве меня туда возила на дачу опять же к родственникам в пригород Киева куда-то. Это я помню.
Игорь Померанцев: Екатерина, вы писатель, у вас есть свое толкование зарубежья, писательская концепция, не знаю, писательский образ зарубежья?
Екатерина Горбовская: Если честно, я не уверена, что понятие "зарубежье" сегодня существует или по крайней мере существует в том виде, который сегодня подлежал бы моему толкованию. Весь мир оказался в доступности.
Игорь Померанцев: Вы говорили о Ефремове, для него зарубежьем был космос.
Екатерина Горбовская: Да. Я не рассматриваю космос как зарубежье, у меня нет тех знаний, тех посвящений, которые были у него и есть у некоторых людей. Потому что зарубежье мы рассматриваем как что-то относительно доступное.
Игорь Померанцев: Один из наших собеседников сказал, что для него зарубежье – это смерть.
Екатерина Горбовская: Нет, я так не считаю. Смерть – это переход в иное какое-то состояние. Это довольно утилитарно называть смерть зарубежьем, это неуважение к смерти, по-моему.
Игорь Померанцев: Екатерина, большое спасибо! И до встречи в космосе.
Иван Толстой: Спасибо большое, Екатерина, за беседу! И не выходите из реки, не высыхайте.
Екатерина Горбовская: Хорошо, я постараюсь.
Иван Толстой: И в завершение стихи в авторском чтении.
Буэнос диас, мои дорогие,
Буэнос диас.
Кто вам раздал эти души благие,
словно на вырост?
С Ветхим Заветом? С Новым Заветом?
Да дело не в этом.
Вот у меня разговорник англо-испанский
прочитан был летом,
а в памяти только "буэнос диас" и "буэнас ночес"…
А что ещё нужно, чтоб жить благонравно
и спать не ворочась?
Буэнос диас, мои дорогие,
аста ла виста.
Господи боже, пошли каждой девке её гармониста,
а гармонисту – добрую мамку и красну сорочку,
да чтобы боком придурку отсидкой не вышла отсрочка.
Вы тоже давайте просите по длинному списку:
льва и дракона, аспида и василиска
и прочую рать – попрать,
бездонные воды, рельефные суши –
чтоб горы сворачивать,
и райские кущи, и адовы груши,
чтоб околачивать.
Тела Христова, хлеба насущного, завтрак туриста,
добрые диас, спокойные ночес…
Аста ла виста.