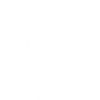25 сентября в Петербурге умер поэт, прозаик, текстолог Владимир Эрль.
В 1960–1970-е годы он принадлежал к группе “поэтов Малой Садовой”, основал литературное направление Хеленуктов, выпустил более сотни самиздатских книг, был публикатором произведений Даниила Хармса, Константина Вагинова, Александра Введенского, Всеволода Петрова, Леонида Аронзона, в 1986 году за достижения в области критики и текстологии стал лауреатом премии Андрея Белого.
уходит на кухню и приносит стеклянную больничную утку с сухим черносливом внутри – и ставит посередине стола
– Если человек занимается Хармсом, то он вполне естественно перенимает его жизнетворчество и театральное поведение, – вспоминает филолог Татьяна Никольская. – И Эрлю игра была в высшей степени свойственна. Вот только что на поминках дочка его жены рассказала, что она как-то дежурила у Володи, который был уже очень болен, ночевала на кухне на раскладушке, и вдруг в полчетвертого утра Володя ее зовет. Она испугалась, вскочила: "Что вам нужно, Володя, вода, лекарство?" – "Нет, нет! Вы посмотрите, как она красиво спит" – и указывает на свою кошечку Хню, которая и правда очень изящно раскинулась у него на одеяле. Эту миниатюрную кошечку кто-то привез ему из Москвы, он ее безумно любил. Года два назад одна его американская знакомая устроила ей день рождения – праздновали год, купили маленький тортик, вставили туда одну свечку, и вокруг Хню водили хороводы, а потом читали ей Хармса. Это уже одно из последних моих воспоминаний, так сказать, обратная перспектива. А когда мы познакомились, он учился в 11-м классе, а я была на 2 года старше – это много значило в этом возрасте, я уже училась в университете. Володя всегда хотел дружить со старшими – со мной, с Алексеем Хвостенко, у которого с ним разница еще больше, с Анри Волохонским. И чтобы с ними дружить, он всем писал письма – приглашения в гости. Однажды, получив такое письмо, я пошла к нему в гости на Пушкинскую улицу. Это была коммунальная квартира, но комната была большая. Была большая компания – пришел Саша Миронов, пришли братья Танчики, Сергей и Вадим. Был хороший стол, все поели, попили, и тут Эрль говорит: "А сейчас будет утка с черносливом". Все говорят: "Да уже никакой утки не хочется, давай чай пить". – "Нет, будет утка с черносливом". Уходит на кухню и приносит стеклянную больничную утку с сухим черносливом внутри – и ставит посередине стола. И тут даже уже у этой богемной публики случился шок, произошла минута молчания. Напротив меня сидел Сережа Танчик, он, я помню, первым протянул руку, взял одну или две черносливины, а за ним и другие, и я тоже: мы ели чернослив из утки – после первого оцепенения. Понятно, утка была абсолютно новая, чистая, купленная в аптеке, а чернослив был отборным, без косточек – и Эрль добился своего, произвел впечатление. Это было мое первое посещение Эрля, потом я еще бывала у него на Пушкинской, но нечасто, а встречались мы почти каждый день на Малой Садовой. Когда там в кофейной поставили кофе-машину, образовалась компания: тот же Эрль, Николай Иванович Николаев, Саша Миронов, братья Танчики, Роман Белоусов, Гайворонский и многие другие приходили туда пить кофе. Братья Танчики были колоритные люди, они называли себя христианскими философами, я больше была знакома с Сережей, который стихи писал, помню, как он стоит у меня в прихожей и стихи читает. Я тогда подрабатывала в газете "Ленинградский автотранспорт", она была на площади Островского. В обеденный перерыв мы с сослуживцами каждый день ходили пить кофе на Малую Садовую, и там я встречала Эрля с его друзьями. Бывал там и Дима Макринов, который потом стал священником, помню, как он уступил мне место в очереди, но так как нас было трое и каждый брал два двойных, то это заняло очень много времени, и больше он уже мне место в очереди не уступал. Еще я встречала Эрля у Хвоста, помню, как он за Хвостом и Волохонским подбирал буквально каждую бумажечку, и уже в 1995 году он отредактировал и подготовил к печати сборник Хвоста "Продолжение" – благодаря тому, что у него была куча всяких черновиков. С самых ранних лет он занимался текстологией и достиг в этом больших высот, так что потом мы с ним вместе в 1989 году подготовили первое комментированное издание прозы Вагинова, там текстология именно Володина. Причем более тщательного, придирчивого и скрупулезного человека найти было трудно.
Такое замечательное сочетание в нем было – с одной стороны, театрализация богемной жизни, с другой – огромная работоспособность. Он ведь не только к текстологии Вагинова, Введенского или Хармса так относился, но и, как ни странно, к своим служебным обязанностям – и в киоске "Союзпечать" на Сенной площади, и в котельной. Я к нему в котельную несколько раз приходила, так он говорил, что своей литературной работой занимается только ночью, а так все делает, что положено по инструкции. У меня тогда много друзей в котельных работало, они там всякими хозяйственными делами занимались, и блины пекли, и белье стирали, а Володя добросовестно выполнял все служебные инструкции, это тоже была его яркая особенность.
– Он ведь нигде не учился, как у него получилось стать таким потрясающим текстологом?
– Я думаю, этому способствовала многолетняя работа в университетской библиотеке. Ну, и дар у него – ведь он еще в 18 лет собирал тексты Хвостенко, Аронзона, который тоже был его старшим товарищем. Эрль быстро стал главой целой группы. Аронзон жил тогда в доме Дельвига на углу Владимирского и Марии Ульяновой, и я сама видела, как приходит Володя, а за его спиной – 7 человек, так он ходил в гости. Они читали свои стихи и слушали Аронзона, которого Эрль считал своим учителем и тоже выпрашивал у него всякие бумажечки и черновики, и закончилось все это тем, что уже после смерти Аронзона именно Эрль с Петром Казарновским подготовили и выпустили прекрасный двухтомник Аронзона. Эрль – текстолог-самородок, я не знаю человека, который бы его этому учил. Не часто случается, что человек лет в 17–18 любит сохранять черновики других поэтов, сопоставлять варианты. Потом они с Мейлахом сделали первое издание Хармса – четырехтомник и двухтомник Введенского. Одно время мы жили рядом – он в коммунальной квартире на Гороховой, а я в Апраксином переулке, и проходя по Сенной, я всегда заходила к нему в киоск: "Володя, как поживаете?" А потом его коммуналку расселили и он оказался на окраине, в Лахте, и тут уже мы стали редко видеться. Еще несколько лет мы не общались после того, как вместе готовили сборник стихов Вагинова, и Володя именно из-за своей обязательности, перфекционизма свою часть вовремя не закончил, и книжка не вышла. Он не хотел остановиться, хотел сделать нечто такое замечательное, чего ни у кого никогда не было и не будет. Я на него рассердилась, и мы несколько лет не встречались. Потом, конечно, помирились. В 70-е годы у него был период дендизма. Наташа Шарымова была администратором в Союзе композиторов и помимо показов фильмов – мы на Годара туда ходили – она устраивала вечера поэзии. Помню, на одном вечере был Эрль с друзьями, выглядел он невероятно: рыжие волосы до поясницы, причем исключительно чистые и блестящие, бархатный пиджачок, бант, рыжие усы – настоящий денди a la Оскар Уайльд. И обожал всякие едкие словечки. А потом этот дендизм куда-то ушел, и волосы он подстриг.
"Эрль тщательно продумывал свой образ, начиная с псевдонима. Эрль по-английски пишется earl, это староанглийский титул, который по-русски обычно переводится как граф. То есть в псевдониме есть некий прикус чего-то английского, чему противоречило отчество Ибрагимович, тянущее в другую, восточную сторону. Он создавал легенду о своём происхождении, уверяя, что его дед был деревенским колдуном. (В последние годы жизни, отпустив огромную бороду, он действительно стал походить на деревенского колдуна)", – пишет поэт Сергей Стратановский. Он знал Владимира Эрля со студенческих лет, а впервые увидел его вместе с Леонидом Аронзоном.
Он делал среду не только своим текстами, но и поведением, манерой одеваться, общаться
– Они пришли на филфак на литературное объединение, которое вёл Евгений Иванович Наумов. Я тогда обэриутов не знал, и когда выступали Аронзон и Эрль, меня просто поразила новая поэтика. Потом я видел Эрля много раз, он заходил на семинар Глеба Семенова. Человеком он был абсолютно необычным, он как бы делал среду не только своим текстами, но и поведением, манерой одеваться, общаться. Он стремился к необычности. Я помню некоторые его реплики. Когда он работал киоскером и у него спрашивали газету "Правду", он переспрашивал: "Правду-ду"? В 1970-е годы мы составляли коллективный сборник "Лепта" для официального предъявления. После первых выставок неофициальных художников мы тоже надеялись разрушить эту стену и вырваться в официальную печать. Заключительное собрание по поводу сборника было на квартире Юлии Вознесенской, и Эрлю поручили сказать обо всех подборках. Он все повторял: "Сократить, сократить", а в заключение сказал: "Вот тут есть еще такой Эрль, это графоман, ему не место в нашем поэтическом сборнике". Мы с Кириллом Бутыриным выпускали самиздатский журнал "Обводный канал", и он в нем участвовал. А потом у нас случилась размолвка – в одной из своих статей я задел Хармса, а он к этому очень ревниво относился. Правда, эта размолвка не помешала ему участвовать в хлебниковской анкете, организованной нашим журналом. В последние годы отношения у нас наладились. Он интересовался не только тем, что было близко к его поэтике, – у него был живой интерес ко всему новому в литературе, не только к поэтам Малой Садовой, но и к достаточно далеким авторам, например, к Светлане Кековой. Он очень много сделал для других – составлял сборники Саши Миронова, бережно хранил и распространял в самиздате стихи Аронзона, чью первую маленькую книжку составил тоже он, эта книжка у меня есть. Без него нельзя представить нашу вторую культуру, он был очень яркой фигурой, создающей ту атмосферу, которой мы тогда дышали. В конце 1970-х он работал в той же котельной, что и Охапкин, к которому я приходил и пару раз заставал Эрля.
Котельные вспоминают многие. Поэт Борис Лихтенфельд некоторое время работал с Владимиром Эрлем в одной котельной. Правда, впервые он его увидел не в котельной, а у Юлии Вознесенской, где тот читал Хармса и свои стихи.
Он любил говорить, что "тщательность – это сестра абсурда"
– Он произвел неотразимое впечатление – какой-то своей неотмирностью. Худоба, длинные волосы, интонации – так, как он, никто стихи не читал в то время. Он был совершенно невозмутимым. А в начале 1980-х мы с двумя Владимирами, Хананом и Эрлем, оказались на одной работе – в котельной Центрального телефонного узла на Мойке, 65. Смену мы передавали подолгу, с чаепитиями и беседами. Оба Володи любили крепчайший чай. При этом Володя Эрль следил, чтобы чайник ни в коем случае не перекипал – до первого пузырька. А если этот момент пропускали, то чайник выливался и процесс возобновлялся. Володя был педантичным не только в творчестве, но и в быту, любил говорить, что "тщательность – это сестра абсурда". В котельной существовала система взаимных расчетов, все склонны были округлять и не придавали этому большого значения, а Володя высчитывал все до последней копейки, у нас лежали записки, кто кому должен. Приблизительности он не выносил. Гости приходили к нам наугад, не зная, кто на смене, но все были свои, и постепенно наша котельная становилась центром второй культуры. Благодаря Эрлю я узнал и полюбил стихи Аронзона, прозу Вагинова, обэриутов, из его рук я получал драгоценный самиздат – прозу Леона Богданова, стихи Александра Миронова. Эрль часто цитировал Салтыков-Щедрина, Козьму Пруткова, графа Хвостова, страстно любил ирландцев – Стерна, Свифта, Беккета, Джойса, да, собственно, он и себя ощущал ирландцем, и мы всегда поздравляли его 17 марта с днем св. Патрика. Когда была последняя перепись населения, он сообщил, что он кельт, хотел, правда, написать, что древний, но удержался. Жили мы неподалеку, я часто к нему захаживал на Гороховую, где поражала его библиотека. У меня библиотека тоже была неплохая, но с Володиной несравнимая. Все мы были охотниками за хорошими книгами и часто покупали их друг для друга. Тогда существовала система предварительных заказов по издательским планам, особенно в "Академкниге", и для кого-то Эрль заказал плакат "Учись разбирать и собирать автомат Калашникова". А однажды в котельную заглянул поэт Юрий Колкер, увидел Володин почерк и догадался, кто заказал для него книгу "Свиноводство в Йоркшире", с надписью "Сэру Юрию Колкеру, эсквайру". Это оказалось пророчеством – Колкер же сейчас в Англии живет. Летом, когда заканчивался отопительный сезон, нас переводили на работу в охрану. Однажды в наше совместное дежурство из здания была унесена пишущая машинка. Нас вызвали для дачи объяснений, Эрль пошел в кабинет первым, а мы с его бывшей женой Соней прождали его часов пять, наверное. Время от времени приходил один из его "собеседников" и говорил: "Интересный человек ваш коллега". Потом выяснилось, что его просто допрашивали по делу Мейлаха, с которым они вместе издавали Хармса в Германии. А меня так и не вызвали, и кража машинки, скорее всего, была инсценировкой. Уверен, что при Володиной невозмутимости он ничего лишнего не сказал.
– А домой вы не ходили друг к другу, только в котельной общались?
– Он приходил к нам домой, сначала на Большую Пушкарскую в дом Басевича, а потом на Васильевский остров. Обычно он приходил с Сашей Степановым, автором монографии об Аронзоне. Володя всегда возился с чужими детьми – Тамары Буковской, Александры Петровой, на наших детей он тоже оказал большое влияние. Из его рук они получили книги Юрия Коваля, пристрастил он их к "Симпсонам". Позднее водил их на концерты "Аукцыона" , Хвостенко. Он очень любил муми-троллей, ему больше всех нравился Снусмумрик, но сам он был похож скорее не Хемуля. А вообще он выглядел каким-то инопланетным существом. А еще я вспоминаю, как Эрль завязал переписку с вильнюсским графоманом Дубасовым, позднее он ее опубликовал, он вообще графоманов ценил. Еще он заявлял о приверженности идеям чучхе, выписывал журнал "Корея", интересовался и более древним Востоком. И всю жизнь очень любил кошек, вспоминал котов своего детства. На Гороховой жил кот Фергюс, памяти которого Эрль посвятил одну из своих книг. После первого Володиного инсульта в 2006 году я привел к нему в больницу Олега Дмитриева, с которым работал на одном заводе. Вскоре Олег вместе с Пяйви Неннонен основал издательство Юолукка, и первая книга, которую он издали, была книга стихов Эрля, сейчас готовится еще одна, которая уже станет посмертной.
ВОРОНА, ГОЛУБЬ И КАПИТАН
Над крышей каркает ворона
и голубя в когтях сжимает.
А тот без крика и без стона
в когтях вороньих молча повисает,
как будто апельсин без кожуры,
как будто апельсин без кожуры.
Вверх смотрит дикий пес из конуры
и цепь свою поверх столба мотает.
На небе голубом ворона пролетает,
в когтях сжимая апельсин без кожуры.
Похоже, будто апельсин вороний
похож на дождь Данаи золотой,
похож на дождь Данаи золотой.
На море парус плещет из-под ветра.
На палубе виднеется суровый капитан.
В трубу подзорную ворону наблюдая,
он видит: на расстоянии около десяти метров
несет она в когтях оптический обман,
да и на вид она — еще довольно молодая.
«Когда б она была Даная,
когда б она была Даная!» —
вздыхает молчаливый капитан
и мчится — дальше в океан.
1969
Очень рано познакомилась с Владимиром Эрлем поэт Тамара Буковская, тоже принадлежащая к тому самому кругу поэтов Малой Садовой, который значил так много в жизни и самого Эрля, и большинства его друзей.
Не просто пародийное явление, это изложение сути бытия, вот что такое хеленуктизм
– Друзей почти не осталось, и с каждым о чем-то не договорили – и с Сеней Рогинским, и с Кривулиным, и с Володей Эрлем. А вообще виновник нашего знакомства – шахматист Геннадий Несис, они с ним учились в одной школе. Кажется, наша компания забрела во Дворец пионеров, в поэтический кружок "Дерзание", и Володя с Геной Несисом туда же пришли, а потом мы как-то одновременно отправились на Малую Садовую, и там началась такая замечательно свободная жизнь, как в античности, – хождение и разговоры. Совершенно необязательные встречи, кто дошел, тот дошел, и все были добры, прекрасны, смущены. Мне тут недавно Дмитрий Макринов, теперь о. Алексий, у которого такие сложные отношения с Православной церковью, написал, что он тогда был робок и боялся разговаривать. Да, мы все были тогда робки и от этой робости, может быть, говорливы, все что-то писали. И теперь оказалось, что написанное тогда что-то невероятное значит. У меня в голове Володины стихи, удивительные строки – "несказанное во мне". У нас была целая жизнь, чтобы договорить, а вместо этого мы ревностно следили друг за другом. Очень много было юношеских претензий к себе – а что ты можешь, а как ты пишешь. Ведь невероятно талантливого поэта Сашу Миронова Эрль встретил в студенческих залах Публички и привел на Малую Садовую. Удивительный Женя Звягин, который тогда писал и прозу, и стихи, Женя Вензель со своим "сокровенным человеком" внутри, своими страхами, большой поэт, который, как ни грустно, почему-то стеснялся своего большого дара. Он был внуком человека, который в 30-е годы был директором Русского музея, а потом Музея этнографии. Это была когорта внуков подбитых, убитых, расстрелянных интеллектуалов. Самое важное – это любовь к книжкам, к текстам. У меня до сих пор сохранилась записная книжка, где Володя от руки переписал мои юношеские стихи. Мы не все переписываем стихи друга, вот я свои потеряла, а его рукой записанное осталось. Володя за жизнь менялся – бывало, и какой-то чёртушка в нем просыпался – то кричал кикиморой, то топорщил ус, то рассказывал, что у него дед был колдуном. На самом деле он и крещеным был, и причащаться ходил. Но в юности он был невероятно лирическим человеком, мог барышне, с которой едва знаком две недели, подарить "Тарусские страницы", они у меня до сих пор с его дарственной надписью хранятся. Нам тогда было по 15–16, мы были еще школьники. Потом он поступил на биофак, но очень быстро оттуда ушел, а потом у него была Университетская библиотека, которая, наверное, стала его главным университетом. Это было удивительное время самообразования – Олег Охапкин был интеллектуал, который образовался сам, а Володя был текстолог и литературовед, который тоже образовался сам.
– Насколько я понимаю, отношения у вас были неровные – вы ссорились?
– Мы были молоды, и поводов для ссор, и литературных, и человеческих, было достаточно. Потом снова сдруживались, бывали на всех Володиных фантастических квартирах. В квартире на улице Правды у него все стены были увешаны холстами, в клетушке на Гороховой, полностью забитой книгами, собиралось, тем не менее, огромное количество людей. Мы жили в Апраксином переулке, и там была почта, и Володя приходил туда за своей обширной корреспонденцией несколько раз в неделю и заходил к нам со своими замечательными рассказами и идеями – например, собирать стихи детей, самые невероятные и корявые. Да, были ссоры, мы выпускали бюллетень Literature и хотели напечатать там Володину прозу, а он дал нам что-то задиристое и эротическое, мы не захотели публиковать, Володя обиделся. Ну, и потом, как мне кажется, Володя со временем отдавал предпочтение новым друзьям, а со старыми расставался. Правда, Дима Макринов потом застал его в таком же лирическом состоянии, как в юности, и помирился, а я вот не доскакала.
– А как вы считаете, откуда взялась его знаменитая экстравагантность?
– Она была не с юности, она пришла с осознанием того факта, что игра, как писал Хёйзинга, старше культуры. Я помню его юного, робкого и даже зажатого, а потом, возможно, из презрения ко всякой светскости, появилась экстравагантность. Но мне это игровое поведение не близко – хотя, я думаю, это род защиты, некий зонт, который человек над собой распускает.
– А как появился хеленуктизм?
– Они его учредили вместе с Димой Макриновым, который писал авангардную прозу, потом работал в Пушкинском доме, потом уверовал, но отклонился от канонического православия, живет не в России, поэтому не провожал Володю в последний путь. А тогда они оба писали абсурдную прозу и назвали свое занятие хеленуктизмом. А о последнем периоде жизни Володи очень хорошо сказал Саша Скидан – что он впал в бесконечное редактирование своих текстов – оригинальных текстов давным-давно не писал и постоянно редактировал старые. А я не знаю, что лучше – редактировать чужие тексты или писать свои.
Друг Владимира Эрля Николай Иванович Николаев, библиотекарь, называет его – в ранний период на Малой Садовой – “поэтическим законодателем с тенденцией к правому авангарду – Хлебников, Крученых, обэриуты, Вагинов”.
Эрль был крупнейшим текстологом русской литературы ХХ века
– Потом это стало темой и прозаических занятий, и исследовательских. Я думаю, что Владимир Иванович Эрль был крупнейшим текстологом русской литературы ХХ века. Благодаря ему состоялось издание Хармса, Введенского и, самое главное, Аронзона. Он меня познакомил с Хвостенко и Аронзоном. А потом мы познакомились с Всеволодом Николаевичем Петровым, другом Хармса и автором замечательных воспоминаний "Калиостро" о Михаиле Кузмине и "Фонтанный дом" об Ахматовой. Последние 10 лет его жизни мы к нему ходили, он был замечательным искусствоведом, его даже Лидия Чуковская вспоминает в своих записях об Ахматовой. Эрль подготовил к печати его повесть, один из шедевров русской литературы, "Турдейская Манон Леско", она вышла в 2006 году, я немного помогал в составлении послесловия. Нас объединяло внимание к творчеству Александра Миронова, Эрль в 1970 году издал его первый самиздатский сборник, а в 1991 году уже настоящий – "Метафизические радости", это избранной, подготовленное вместе с Еленой Шварц. Самый его грандиозный труд, в котором ему помогали Илья Кукуй и Петр Казарновский, это подготовка двухтомника Аронзона. И вот что еще очень важно, мы пришли на Малую Садовую в 1964 году. Что это за время? Бродский в ссылке, все читают Бродского. И вся Малая Садовая поняла, что надо идти поэтически другим путем. И этот путь был определен через линию Аронзона. А еще раньше Владимир Эрль с Александром Степановым издали в приложении к журналу "Часы" том об Аронзоне. В 1966 году появилась группа Хеленуктов – ее организовали Эрль, ДМ (Дмитрий Макринов), Миронов и еще несколько человек. В этом литературном направлении было предсказано практически все, чем потом занимались наши модернисты, метафористы, концептуалисты и прочие. Владимир Иванович издал и книгу "Хеленуктизм", она воспроизведена на сайте "Вавилон", но, к сожалению, не полностью. Там присутствовал весь идиотизм и абсурд тогдашнего окружающего бытия и еще игровой момент, то, что потом стало называться хэппенингами. Предыстория ясна, о ней сам Эрль писал – это и пародийные стихи Достоевского, и Козьма Прутков, и братья Жемчужниковы, и Алексей Константинович Толстой, и так называемые наивные поэты, и Крученых, и много чего еще. Это целая поэтика. Особенно замечательные у них были совместные произведения с Дмитрием Макриновым в 60-е годы, но в 70-е он стал священником и отошел от творчества. Но все это осталось в поэтике Эрля.
– А вы согласны с тем, что Эрль был необычным, экстравагантным человеком?
– Да, он поражал всегда, с первого знакомства. Вот, например, он читал собрание сочинений Салтыкова-Щедрина, 23 или 24 тома – том за томом, и так он много чего прочитал. Как известно, товарищ Сталин очень ценил Салтыкова-Щедрина, вот и Владимир Эрль его любил. Экстравагантность – да, это был образ жизни. Вот, например, 1965 год, Эрлю 18 лет, Миронову 17, они садятся на 3 трамвай и доезжают до мясокомбината, а оттуда они уехали в Москву, и мне пришлось по родителям ходить и успокаивать – что дети не пропали. В Москве они пошли к Алексею Крученых, тот открыл дверь и спрашивает: "Зачем вы пришли?" – "Поговорить про Хлебникова". – "Ну, прочитайте мне "Трущобы" – это знаменитый стих Хлебникова". Владимир Иванович тут же прочитал, и тогда Крученых сказал: "Заходите". Потом он отвел их в какой-то молочный буфет и накормил. Они там и со СМОГистами познакомились. А потом Владимир Иванович познакомился с великим Николаем Харджиевым, известным собирателем, текстологом, издавшим в 1940 году неизданного Хлебникова, и среди тех, кого он благодарил, упомянувшего Хармса – просто потому, что ему хотелось его упомянуть. Харджиев – это такая живая легенда, он с Эрлем подружился и очень его ценил.
Историку неподцензурной литературы Ленинграда Вячеславу Долинину запомнилось, какие замечательные самиздатские книжки делал Владимир Эрль.
Он хотел составить полную библиографию всех произведений, напечатанных в самиздате, это огромная работа
– Это уникальные издания, выполненные с необыкновенным изяществом. Занимаюсь историей самиздата много лет, но таких больше никогда не видел. Они были очень красивы и оригинальны, он использовал разные шрифты, разноцветную бумагу, сейчас они, если не ошибаюсь, хранятся в бременском архиве. Домашние "издательства" Эрля назывались "Польза" и "Палата мер и весов". Он был прекрасным литературоведом, благодаря ему сохранились ценные тексты, которые могли бы пропасть. А сам он был очень оригинальным фантазером. Как-то, помню, он поспорил с Виктором Кривулиным, и Кривулин назвал его ханжой. "Да, – сказал Эрль, – я ханжа и на том стою". А через несколько дней при встрече он объявил, что начал выпускать журнал "Ханжа" и вышел уже 4-й номер. Я говорю: "Владимир Иванович, а когда же вы успели выпустить первый?" Он посмотрел на меня высокомерным взглядом и гордо произнес: "Не такой я дурак, чтобы начинать с первого номера!" А однажды он послал открытку в журнал "Корея" – с поздравлением великого вождя и Солнца нации Ким Ир Сена с днем рождения. Из журнала "Корея" ему пришла благодарность на глянцевой бумаге. В свое время Эрль составлял опись самиздатских журналов, он хотел составить полную библиографию всех произведений, напечатанных в самиздате, это огромная работа, он занимался ею много лет. Мы сотрудничали – я ему разыскивал те издания, которых он не мог достать, а он мне помогал в сборе материалов для антологии неофициальной поэзии Ленинграда, которая готовилась в 1981–82 годах. Я был одним из составителей, и многие тексты нам удалось найти благодаря рукописному собранию Эрля. В общении Эрль был человек непростой, у него со многими были конфликты, со мной, правда, не было. Я помню, как он умел заваривать чифирь – хотя никогда в тюрьме не бывал. Еще мы общались на "шимпозиумах", которые собирались на квартире у Елены Шварц. Это шуточные семинары, на каждом полагалось два доклада: один – об одном дне из жизни какого-нибудь известного человека, второй – разбор какого-нибудь стихотворения. Чтобы оценить доклады, в специальный ящик кидали шнурки: белый – это была высокая оценка, черный – средняя, красный – отрицательная. Потом из этих шнурков сплетались хвосты – мы же все были под обезьяньими именами: Шварц – сестра Шимп, я – брат Лемур, а обезьянье имя Эрля было брат Долгопят. Эти шимпозиумы продолжались несколько лет, Эрль вел хронику, и, наверное, она где-то сохранилась.
Протоиерей Борис Куприянов познакомился с Владимиром Эрлем лет 50 назад, встречался с ним и на Малой Садовой, и в знаменитом кафе "Сайгон", и в Клубе-81. Он же исповедовал и причащал его перед смертью.
– Мне кажется, несмотря на тот образ, который он всю жизнь создавал, он был очень добрым человеком. Для меня главное в нем – доброта, чуткость, тонкость восприятия.
– А как насчет его игр с "чертовщинкой"?
Тогда что ни душа была, то открытая рана
– Да все мы в те времена так себя вели, главное было – выразительность. Надо было себя увидеть в содержательных красках – чтобы отстоять от того мира, в котором мы тогда жили. И эта выразительность требовала чрезмерности во всем. Сам я, конечно, читал Хармса, Олейникова и других, но не так, как Эрль – у него была редкостная глубина знания их творчества. Я, знаете, что вспоминаю – как он однажды купил 4 пачки пельменей, горчицы банку и пригласил меня на ужин. А я тогда как раз очень есть хотел, и он это как-то почувствовал. Мы же тогда непонятно как жили, непонятно чем питались – и друг другу помогали, у кого что есть. Ну, вот, мы к нему пришли, а он очень "Битлз" увлекался, у него и пластинки были с их песнопениями. И вот, он ставил эти пластинки, мы сидели, горчицей мазали пельмени – и все съели, все 4 пачки. А в этих пачках чуть ли не по килограмму было. Вот и в этом чрезмерность тоже выразилась тогда. Но главное не это – с Кривулиным, с Охапкиным у нас всегда были литературные беседы, а здесь мы музыку слушали, молчали. Мне кажется, он был красивый человек. Я его исповедовал, причащал, и я совершенно не сомневаюсь, что он был верующим. И даже, я бы сказал, боголюбивым, хотя вроде бы его литературное творчество об этом впрямую не говорит, а верующего человека многое может даже покоробить. Он был человеком глубокой порядочности. И он был боец против того, что тогда творилось, считал долгом своим компрометировать мир, сложившийся в безбожные времена. Многих тогда и к вере привело неприятие того мира с его ложью. Самое страшное – это была ложь, унижающая достоинство людей. И все же тот мир обладал живым нравственным чувством, несмотря ни на что. Тогда что ни душа была, то открытая рана. Тогда люди спивались, мало было примеров в семейной жизни, где бы христианские идеалы торжествовали, но все равно было ощутимо, что будет исход из этого времени, и в этом была надежда. А Володя был боец не только против этой лжи, но и в отношении недугов, которые его посетили. И при этом – хотя я за 30 лет служения много повидал страданий человеческих и ухода из жизни – меня поражала его интонация. Чувствовалось, что совершилась настоящая победа – и духовного плана, и душевного. Для меня, верующего человека, смерти-то нет. Ну, и здесь было свидетельство. Не всегда так бывает, иногда люди малодушествуют, а он был абсолютно отважен.