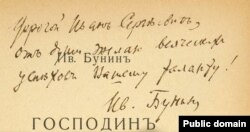27 страниц бунинского текста заставили даже самых упрямых скептиков признать писателя крупнейшим из живых прозаиков своего времени.
Пятый по счету сборник "Слово" вышел в московском "Книгоиздательстве писателей" в декабре 1915 года, с опозданием на месяц из-за цензуры военного времени. Среди коротких вещей (Борис Зайцев, Иван Шмелев, Илья Сургучев, Константин Тренев и Николай Тимковский) критика хором отметила одну – рассказ Ивана Алексеевича Бунина, так что у Максима Горького были все основания сказать: "В V сборнике "Слова" никакой литературы, кроме Бунина, – нет".
Историю создания рассказа записал сам автор. Летом 1915 года в Москве в витрине книжного магазина он увидел обложку "Смерти в Венеции" Томаса Манна. А в сентябре "я почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостиницу "Квисисана", где мы жили в тот год, и тотчас решил написать "Смерть на Капри", что и сделал в четыре дня – не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию сереньких и уже довольно коротких и свежих дней и тишине в усадьбе… Заглавие "Смерть на Капри" я, конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал первую строку: "Господин из Сан-Франциско…" И Сан-Франциско, и всё прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в "Квисисане") я выдумал… "Смерть в Венеции" я прочёл в Москве лишь в конце осени. Это очень неприятная книга".
В юности мне казалось, что никакого сюжета у бунинского рассказа нет: ну, приехал из Америки богатый человек и умер. Но когда перечитываешь сейчас, через сорок с лишним лет, следить начинаешь за писательской техникой. Но технику эту критика столетней давности оценила как-то кособоко.
Конечно, – отзывался Юлий Айхенвальд, – "Господин из Сан-Франциско" – притча о ничтожности богатства и власти перед лицом смерти. Корабль Бунина "кажется символом человечества, одновременно сильного и жалкого, гордого и ничтожного, одинаково исполненного несчастья и вины, преступления и наказания".
Авторский замысел расшифровывался рецензентами военных лет с видимым удовольствием. Особенно доставалось Америке, которую никто их критиков никогда в жизни не видывал: "Это (герой рассказа – Ив.Т.) – представитель той равнодушной деловой Америки, – уверенно припечатывал киевлянин Л. Козловский, – которая, наживаясь на европейской войне, исполняет заказы обеих воюющих сторон... А этот гранд-пароход... разве... не символ... европейского общества, которое беззаботно увлекалось танго, идя навстречу страшнейшей из войн".
В рассказе Бунина, – соглашался петроградец Адам Бельский (Альберт Пинкевич), – "весь наш социальный строй, вся наша культура нашла... изумительно сжатое и сильное отражение".
Московский театровед и писатель Абрам Дерман в обстоятельном анализе рассказа, озаглавленном "Победа художника", проводил параллель между Буниным и Львом Толстым:
"Жизнь американца и смысл ее подвергнуты в рассказе испытанию смерти, – таков замысел художника, столь характерный для произведений Толстого, под знаком смерти пересмотревшего все ценности и своей лично, и вообще человеческой жизни, насытившего психологией этого процесса и всю свою художественную деятельность... Счастье богатства, роскоши, земных утех, чувственных наслаждений раскрывает свою призрачную, пустую и жалкую сущность в момент смерти. Таков обычный мотив у Толстого, с обычными же соответственными приемами, часто сводящимися к возведению героя на большую "земную" высоту, чтобы тем разительнее и трагичнее было его падение в пучину смерти.
Тот же прием, – продолжает А. Дерман, – мы находим у Бунина. Необходимо самому прочесть (и перечесть) эти немногие страницы, густо насыщенные образами, где автор описывает бесконечно изощренный культ роскоши и наслаждений, которому служит американец, ту всеобщую готовность удовлетворить его малейшую прихоть, которой он уже даже не замечает, чтобы почувствовать во всем этом стройную определенность замысла в указанном выше стиле".
Толстовскими называет Дерман у Бунина и "непрочность этого грешного земного великолепия, покоящегося на рабском труде", и "уродство за радужной оболочкой внешнего блеска". Бунин и Толстой придерживаются, по Дерману, сходной идеи: "Эта идея – чисто религиозно-нравственная, воплощенная в форму, где социальная несправедливость проявляется нравственной тупостью, а нравственная тупость ведет с неизбежностью к бессмысленной гибели арелигиозного существования".
Очень точно Абрам Борисович Дерман отмечает различия в подходе двух писателей: если бы "Господина из Сан-Франциско" стал писать Лев Толстой, он "более, чем вероятно, дал американцу и время, и возможность ужаснуться на свою жизнь, проклясть ее, "опомниться", постигнуть (при помощи Герасима или Акима, или еще кого-нибудь в этом же роде) истинный смысл жизни и, озарив им остаток своих дней, открыть своею смертью перспективу нравственного смысла не только для настоящего и будущего, но и для прошлого, своими ударами направившего заблудшего к познанию истины... У Бунина нравственная перспектива для американца закрыта совсем и навсегда, – и только для живых грозным memento остается эта тупая гибель заблудшего".
Поздне-народнический критик Аркадий Горнфельд (тот самый, кого в 1920-е возненавидит Мандельштам) был уверен, что "нельзя безнаказанно играть символами: символы, столь несомненные, столь общепризнанные, становятся схемами...", и в бунинском рассказе "тезис на первом плане, а психология на втором".
В бунинском рассказе "тезис на первом плане, а психология на втором"
Однако, говорит Айхенвальд, сила этого рассказа не в сюжете, а "в этих долгих желанно-тяжелых, как спелые колосья, фразах". И некоторые критики отмечали здесь "богатство и целомудрие слов". "За исключением одного Лермонтова, – отзывалась Елена Колтоновская, – наша литература не знает подобного идеального сочетания – чеканных стихов со свободной прозой".
Как читателю мне кажется теперь, что старая критика прошла мимо символики другого рода. Океанский корабль "Атлантида" (прозрачно намекающий даже не на сходство с "Титаником", к тому времени уже затонувшим, и не на торпедированную "Лузитанию", а на бренность жизненных радостей в целом), собрав своих пассажиров в современном раю, несет их к райским удовольствиям и дальше. И семь дней тяжелых погодных испытаний в бурном океане никаким образом не становятся той самой страстной неделей, которая должна в итоге явить спасителя. Спасителя на корабле нет. Ни одного. Да и везут путников, по календарю, не к Пасхе, а к Рождеству, и неделя поэтому – лже-страстная, и главный герой – лже-мессия.
Нарушение читательских ожиданий Бунин соблюдает настолько последовательно и многократно, что даже удивительно, как этого не могли заметить современники.
В рассказе ничтожны все до одного, а не только отмеченный авторским вниманием американец. Здесь нет положительных героев, и на холодную брезгливость Бунин вполне щедр. Пуста жена героя (она "никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы"), непривлекательна прыщавая дочь (хоть и "нежнейши" ее "розовые прыщики" между лопаток), фальшива лже-влюбленная пара танцоров ("нанятая Ллойдом" и играющая "в любовь за хорошие деньги"), профессионально лицемерен капитан корабля, доведена до автоматизма радушность (а чуть позднее – и бессердечность) владельца каприйской гостиницы, отвратительны решительно все пассажиры – богатые, объедающиеся и напивающиеся ликерами "до малиновой красноты", – и даже испанский писатель на корабле был в первой редакции бунинского рассказа "похож на кабана".
Честно говоря, американцем ему быть не к лицу
Но Бунин выбирает лишь одного героя. Честно говоря, американцем ему быть не к лицу, не похож он на янки – прежде всего неубедительна мотивация его поездки. Он что, неожиданно оставляет свой бизнес? Верится с трудом. Перекладывает дела на кого-то другого, на управляющего? Маловероятно, тем более в эпоху медленных почтовых связей оставить бизнес без контроля равносильно потере управления им. Но главное – сроки. Господин из Сан-Франциско отправляется за удовольствиями на два года. Не на два месяца, а на два года! Нет, такие американцы существуют только в воображении Бунина. Самое условное в рассказе – это главное действующее лицо. Да и живой ли он вообще? И отчего он лишен имени?
Господин – собирательное наименование повелителя, властелина, хозяина, обладателя права на эту жизнь. Но чем сильнее его власть, тем слабее оказываются его истинные возможности. В рассказе это дано через рассредоточие центра повествования: действие насыщено таким множеством деталей и описаний, что тонет в их пестром разнообразии. Георгий Федотов называл это "утратой цельности" в восприятии мира, "потерявшего центр своего действия".
Отсюда и авторский взгляд – всевидящий, насыщающий каждый абзац всем, что способен охватить зараз. И повествование, как пароход, продвигается страшно медленно, с изнурительными подробностями. Бунинский текст взывает к музыкальному сопровождению, и в рассказе не раз упоминается корабельный оркестр, но странно – читателю его никак не расслышать, музыка в повествовании не звучит, сколько ни перечитывай.
Так живой ли человек предъявлен нам с первых же страниц или, скорее, высохший богомол (каламбур невольный, но значимый), почти истукан:
"Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов".
И тут же на стену вешается ружье: "Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами". Выстрел прозвучит скоро.
Плохо верится, однако, в выбранный героем маршрут путешествия, в этот развлекательный маседуан из культур и впечатлений. Не какой-нибудь театральный актер, не писатель, а прагматичный делец расписал себе следующую дорожную карту:
"В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, – любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло... начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там Miserere ("Смилуйся" – Ив.Т.); входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония".
Мешанина эта к образу дельца совершенно не подходит. Но автору он нужен как пример современной всеядности, аттракциона и карнавала, и Бунин выстилает его путешествие всей пестротой культурной мифологии – от античной и библейской до новоязыческой и условно-буддистской ("нечто монгольское").
Тем не менее, из всей толпы пассажиров господин из Сан-Франциско не отмечен ничем, кроме воли автора, указавшего на него перстом и навлекшего смерть на этого несчастного. Хотя точно так же Бунин мог выбрать любого из плавающих и путешествующих.
Корабельный оркестр заглушает любое memento mori
Океанский апокалипсис постоянно напоминает им о страшном суде, но пассажиры воспринять его неспособны. Корабельный оркестр заглушает любое memento mori. Опасность из сознания вытеснена:
"На баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену – ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале (…). Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы (…), в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена (…), мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля (…); а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма...".
Ад неузнанным движется вместе с пассажирами сперва в Европу, а затем – в обратную сторону, и снова невидимым, просто пополнившимся одним безымянным грешником.
Если Бунин писал бы не рассказ, а эссе, он, конечно, отметил бы, что на корабле грешники едут на шикарных палубах (в раю), а праведникам суждено мучатся в аду трюма. Но Бунин – художник, и потому он о праведниках пишет иначе – как об "облитых едким, грязным потом и по пояс голых людях, багровых от пламени".
Испытание водой, огнем ("гогочущими исполинскими топками") и медными трубами, – их роль играет струнный оркестр.
Праздником жизни хотят пассажиры вытеснить мысль о Боге, кораблем (цивилизацией) – защититься от сил зла.
Ледяное и снежное океанское испытание наконец-то заканчивается – "Атлантида" проходит через врата Гибралтара, где "всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну". Другой бы – не Бунин, а, скажем, любитель прямолинейных намеков Леонид Андреев – ухватился бы за напрашивающиеся евангельские параллели: весна, побеждающая красота, воскрешение. Но Бунину интереснее тема двойников:
Но Бунину интереснее тема двойников
"...на борту "Атлантиды" появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, – наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный...".
Это символический двойник главного героя: принц (= магнат из Сан-Франциско), азиат (= нечто монгольское), инкогнито (= безымянный герой). И, наконец, то самое ружье со стены: "...слегка неприятный – тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого".
Еще один лже-мессия, он быстро исчезнет, как мимолетное отражение в зеркале. Бунину он нужен для указания на неуникальность главного героя: в этом роевом мире нет индивидуальностей, нет имен, тупая смерть ждет каждого.
Для этого же и обстановка каприйской гостиницы по существу копирует атмосферу корабля – и не только богатством и удобством. Люди здесь — двойники корабельного персонала и, значит, путешествие не закончилось: хозяин отеля, "встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою".
Конечно, ночью было предзнаменование, "пророчество", и повторен не только метродотель, но и танцующая на корабле пара – вроде бы, новая, но по сути та же.
Но богатые и сытые путники, как и полагается в обличительной литературе, не видят самого главного – красоты окружающего мира. Не герой рассказа, а только сам автор видит такую мизансцену (описанную им на пятнадцать-двадцать лет раньше, чем это научился делать Набоков): "Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек – и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди". ("Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул (…) и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону...").
Есть у Бунина некоторые детали, прошедшие, по понятным причинам, незамеченными для читателей 1915 года, но сегодня просящие реально-исторического комментария. Вот мимолетная фраза:
"...несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек".
Да мы этих бородачей можем всех поименно назвать – это же создатели каприйской школы рабочих пропагандистов – Григорий Алексинский, Александр Богданов, Василий Десницкий, Леонид Красин, Анатолий Луначарский, Давид Рязанов – все сплошь люди бородатые. Некоторые организации прислали сюда из России слушателей. Позднее, впрочем, оказалось, что многие из них были агентами царской охранки и, судя по старым фотографиям, лиц не брили, так что Бунин мог случайно описать в рассказе кого-то из провокаторов.
Сразу по приезде господина на остров наступило время ужина, – "...он снова стал точно к венцу готовиться", – до смерти оставался всего час: "...Повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить...". Ритуальное омовение перед земным финалом.
По пути на ужин герой заходит в читальню, и снова не замечает заготовленного предзнаменования: "В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами".
Сейчас окажется, что этот "Ибсен" – двойник, только двойник из параллельного мира, где способны удивляться, переживать, изумляться – то есть, чувствовать все то, к чему душа главного героя давно умерла. И седина будет, и круглые очки, и газета, и выпученные глаза:
"Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия нескольких статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, – как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха – и дико захрипел...".
Дальше идет очень символичная деталь, проходящая через все повествование: "...нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб...".
"...Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб..."
Бунин в течение всего рассказа настаивает на золоте: "...золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – крепкая лысая голова; хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело..."
Это, конечно же, та золотая монета, что клали покойнику в рот – как плату лодочнику Харону. Дополнительная ирония этих пломб в том, что пломба – словозамена коронки: не корона Царя Иудейского (прозвание Царь Иудейский применительно к мессии и само по себе – изначальный сарказм), тут коронка во рту лже-мессии. Образное смешение мифов, античного и библейского, вполне в духе бунинского рассказа.
Господин умирает перед ужином – в последней вечери ему отказано. Символически, духовно, мертвый уже при жизни, он на краткий миг получает шанс преобразиться и явить скрытую всей своей греховностью красоту: "И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...".
А на следующий день после смерти будет и Харон посюсторонний, и тоже в иронической подаче: "Торговал только рынок на маленькой площади – рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела ("плату принявший свою, чуждый работе иной"), стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам".
И с этого начинается краткая вторая повествовательная – и тоже бессюжетная – линия рассказа – о подлинной красоте. Красота эта естественна, соприродна жизни, труду и солнечному циклу здешних мест: древняя финикийская дорога, абруццкие горцы с волынками и цевницами, каменистые горы, сказочная синева, "красоту которых бессильно выразить человеческое слово. (…) Над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, матерь божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее".
И, обозначив этот второй полюс, полюс высокого бессмертия, Бунин вновь поворачивается к своему герою: "Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света". И в этих строках современные Бунину критики опять слышали только гнев социального обличения:
"Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый кораблю, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых – глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм".
И была это – в одеждах художественного рассказа – еще одна изнуряющая страстная неделя, предлагавшая несостоявшемуся мессии саркастическое зазеркалье – не подняться, а спуститься в рай. В котором не бывает ни индивидуальных судеб, ни личных имен, ни, уж конечно, светлых воскресений.
Спору нет, величайший рассказ и столетний юбиляр, но мне, признаться, ценнее всей его образности и художественной философии невзначай брошенные бунинские детали, – например, такая: "маленькие мышастые ослики под красными седлами". И все оправдано.